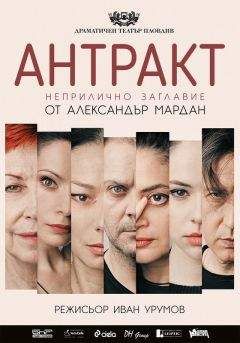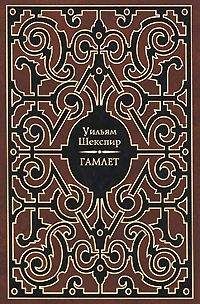Александр Минкин - Нежная душа
– Стоило возвращаться?
– Вернулся, а у вас тут исход. Вернулся один, а бегут десятки тысяч. От страха, от безнадежности, лжи – не знаю. Четыре года врали о Чернобыле – все чисто, все безопасно. За это время сотни тысяч уже заплатили здоровьем и еще заплатят смертями, бесплодием, детьми-уродами. Жертв – как на войне. И никто не виноват. И те же, кто врал, теперь «принимают меры». Они же врут, чтоб паёк не потерять, чтоб сладко есть. И никто им не сказал: вы людоеды, подите вон со своих постов. Ведь это ложь не брежневская, о которой и слушать надоело, это ложь сегодняшняя. Опять властители обманывают народ. Ничего не меняется. Люди закупали остатки всего после доклада Рыжкова. У нас всегда бросаются на прилавки грудью, как Матросов на амбразуру. Жрать нечего, а куда танки деть – не знаем. Председатель Совмина раз в жизни сделал хорошее дело: загнал танки, никому не нужные, – так чуть не плакал потом.
– Вас заставляли ставить спектакли к съезду, к юбилею?
– Конечно. Говорили: если хотите работать – ставьте «Мать».
МОЛЬЕР. Извольте… я, быть может, вам мало льстил? Я, быть может, мало ползал?.. Ваше величество, где же вы найдете такого другого блюдолиза, как Мольер?.. Но ведь из-за чего? Из-за «Тартюфа». Из-за этого унижался… Ненавижу королевскую тиранию!.. Что еще я должен сделать, чтобы доказать, что я червь?
Монархия ли, демократия ли… Мольер о Людовике в пьесе Булгакова говорит то, что сам Булгаков мысленно говорит Сталину. Это беспредельная ненависть задушенного, затоптанного таланта. Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу! Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу.
– Я поставил «Мать». Они издевались, заставляли по пять, шесть, десять раз сдавать, запрещали, «Кузькин» («Живой». – А.М.) двадцать один год валялся, а ведь это не книга. Без конца заставляли вхолостую работать, при пустом зале для них играть, как – удельные князья. Это же очень унизительно. Но в то же время я испытывал гордость за актеров – они, зная, что запретят, играли абсолютно свободно и ничего не смягчали. Работали для искусства, для себя.
– Неужели до Фурцевой не доходило…
* Закладывать – доносить. Но в данном случае – «закладывать за воротник» – кирять, квасить, бухать.
– До нее Зыкина доходила, когда они вместе закладывали*, парились… Она ничего не поняла даже в «10 днях…», расспрашивала Жана Вилара: чего вы им интересуетесь? чего это так хлопают? чего они там увидели? Ей нравились кремлевские концерты во Дворце съездов – свои вкусы, взгляды, пайки, дачи… Они же к искусству не имеют отношения. Вообще искусство никому не нужно. Правителей оно всегда раздражает, не только коммунистов, но и фашистов, и феодалов. Китайские династии до нашей эры с музыкой боролись.
– «Кузькин» не Кант, не Гегель. Что тут не понять?
– Фурцева сказала: «Иностранцам и ездить-шпионить никуда не надо – они тут увидят, что у нас творится». А ее помощник: «Даже если это и было – этого не было, потому что нам это не надо».
– Она ж русская женщина – неужели не брало за душу?
– Она приличней Демичева была. Могла сама позвонить: «Ну что вы там с этим евреем (Якобсоном покойным)? Зачем он вам понадобился!» Они его не хотели пустить в Италию со мной спектакль ставить. Говорю: вам он тут не нравится, все на него доносы пишут, вот и пустите его выполнять партийное задание на благо Родины. К тому ж и Берлин-гуэр Брежнева просил. «Да берите вы вашего еврея и уезжайте быстрей!» Мы и уехали. Он хоть перед смертью Италию увидел.
– Юрий Петрович, хотите, я вам «Молодую гвардию» почитаю?
– Роман? Но я же всю эту муру играл.
– Нет, журнал. Вас тут Куняев в диссиденты записал. «Сейчас судьба диссидентов семидесятых годов всячески героизируется, журналы наши заполнены подборками стихов Галича-Гинзбурга, Коржавина-Манделя, Бродского,
Алешковского, страницами из Аксенова и Войновича, воспоминаниями о В.Некрасове, раздаются голоса о привлечении к ответственности различных чиновников, из-за которых вынуждены были остаться за границей Тарковский, Ростропович, Михалков-Кончаловский, Корчной, Неизвестный, Любимов. Их судьбы то и дело сравниваются с судьбами Бунина и Шаляпина, Рахманинова и Набокова. Я думаю, что надо бы разобраться поглубже во всем этом потоке оценок и комментариев, потому что причины и цели «третьей», или, как ее еще называют «еврейской», эмиграции были, как говорится, неоднозначными…»
– Я знаю – они и меня в евреи записали. Любимов – значит, Либерман. И Солженицына в свое время в Солженицеры записали. Таганку звали еврейским театром. Можаеву, Абрамову говорили: «Куда ты идешь, это же еврейский театр!» У меня много евреев артистов. Когда «Гамлета» послали на БИТЕФ в Югославию, то всех евреев не пустили: Смехова, Высоцкого… Сказали: «Введите новых»*. Шестнадцать человек не пускают, зато едет из КГБ куратор, которому фактически все подчиняются (он оформлялся как член коллектива). Я проснулся ночью и решил: не надо никого вводить и ехать, вдруг я не возьму первое место, они и скажут: «Вот вам Таганка вшивая, ничего и взять не смогла».
* Ввод – назначение нового актера (вместо заболевшего, умершего) на роль в давно идущий спектакль.
Утром я иду к замминистра Попову. Он: «Вам оказано доверие… это ответственное задание… БИТЕФу десять лет…» Я посмотрел, подождал, пока он окончит ораторствовать. Доложите своему шефу, что никого я вводить не буду, если хотите – вводите сами, вот вы прекрасно сыграете роль Полония, Демичев-министр – короля, Ну а Гамлета выбирайте сами, вам виднее. Всего вам доброго. И вышел из кабинета. И никого не вводил. И все поехали. И Гран-при взяли.
– Стоило возвращаться?
– Ловлю себя на мысли, что уже не нужен этому театру. Еще «оттуда» писал Демидовой: это будет возвращение на пепелище. В одну реку нельзя войти дважды. К сожалению моему глубокому. Это мы видим и в масштабах страны… Я родился в 1917-м, 30 сентября, – успел до революции. Прожил тут всю жизнь, пока очередной мудрец из странного органа – Политбюро, не приходя в сознание, лишил меня того, чего невозможно лишить.
– Всегда ли вы держались такого образа мыслей? Испытывали ли вы иллюзии? Были ли обольщены режимом, идеей?
– Верил – нет. Одурманен – был. Мы с братом смели говорить отцу: «Правильно, папа, вас сажали. Вы отсталый тип».
– Павлики Морозовы.
– Нет, мы не доносили. Но представьте: бесконечная пропаганда – как мы растем, как «широко шагаем» – на улице, в школе, везде. А папа говорил: когда же кончится это безобразие?
– Стоило возвращаться?
– Шесть лет мне было. Школа. Я там учился с нулевого класса. Рядом церковь. В Кропоткинском переулке. Учительница: «Дети, давайте проголосуем: нам мешает эта церковь. Поднимите руки». И подняли. Я не поднял. На следующий день вызвали маму.
И вот теперь то же – с моим сыном. Приехал он из-за границы. Надо учиться. Показали ему школу. Понравилось? Нет. Почему? А почему висит один мужчина везде? – Этот мужчина создал все. – Он вам все создал, да? У вас повсюду так воняет туалетом, грязно. И почему-то все кричат, никто не слушает друг друга. Я у вас не хочу учиться.
Эта страна всех развратила. Под лозунгами труда и трудящихся тут никто не работает и презирают труд.
– А вы почему любите?
– Семейное. У меня дед трудился всю жизнь, отец тоже. Он увидел это безобразие сразу… Семьдесят лет тянулось. И Николай Робертович Эрдман тоже ошибся. Уж такой умный человек. Сперва он печально говорил: «Ну я, к-конечно, ничего не увижу, но в-вы, Юра, может, что-нибудь и увидите». Потом, через несколько лет: «Юра, я должен вас огорчить, вы т-тоже ничего не увидите». Теперь я должен огорчить президента: он тоже ничего не увидит.
– Спасибо. До свидания.
– Погодите. А почему у вас не платят даже эти вшивые рубли?
– За интервью?
– Да. На Западе за такое интервью заплатили бы минимум пару тысяч долларов, что по курсу здешнему – сорок тысяч рублей.
– Это не по курсу. Это по рынку.
– И я мог бы тут же их пожертвовать детям.
– Когда «Огонек» станет финансово независимым, мы сможем платить.
– «Покуда травка подрастет, лошадка с голоду помрет», – помните Гамлета?
– Спасибо, Юрий Петрович, я ушел.
– Прекрасно.
…Мы пишем и пишем о том, что надо вернуть изгнанникам гражданство, надо извиниться.
Но пока мы говорим о возвращении изгнанников, а правительство о них молчит, из страны уезжают – нет, бегут сотни тысяч. И никто ничего не делает, чтобы их остановить.
И что – опять назовем миллионы граждан предателями Родины? Как назвали этой уголовной кличкой миллионы солдат, попавших в плен по той же причине – по бездарности неграмотного правительства?
А беглецы эти не худшие из сынов России, как не были худшими ее солдаты. Ведь покидают дом не придурки, не калеки, не старики, не больные, не чиновники – эти-то все остаются нам. Уходят крепкие, деловые, грамотные, инициативные, честолюбивые и трудолюбивые – другим там и не пробиться, райские кущи их там не ждут, на море дует ветер, язык чужой… и вообще дело не в Англии…