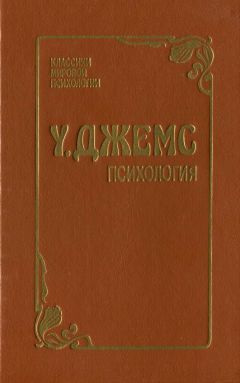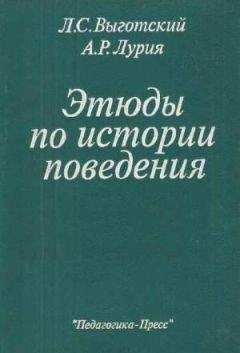Лев Выготский - Психология искусства
Водовозов указывает на то, что дети, читая эту басню, никак не могли согласиться с ее моралью (27, с. 72-73).
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
И в самом деле, эта мораль, которая идет от Эзопа, Федра, Лафонтена, в сущности говоря, совершенно не совпадает с тем басенным рассказом, которому она предпослана у Крылова. Мы с удивлением узнаем, что существуют сведения, по которым Крылов уподоблял сам себя этой лисице в своих отношениях к графу Хвостову, стихи которого он долго и терпеливо выслушивал, похваливал, а затем выпрашивал у довольного графа деньги взаймы (60, с. 19).
Верно или неверно это сообщение – совершенно безразлично. Достаточно того, что оно возможно. Уже из. него следует, что едва ли басня действительно представляет действия лисицы как гнусные и вредные. Иначе едва ли кому-нибудь могла бы закрасться мысль, что Крылов себя уподобляет лисице. И в самом деле, стоит вчитаться в басню, чтобы увидеть, что искусство льстеца представлено в ней так игриво и остроумно; издевательство над вороной до такой степени откровенно и язвительно; ворона, наоборот, изображена такой глупой, что у читателя создается впечатление совершенно обратное тому, которое подготовила мораль{41}. Он никак не может согласиться с тем, что лесть гнусна, вредна, басня скорей убеждает его или, вернее, заставляет его чувствовать так, что ворона наказана по заслугам, а лисица чрезвычайно остроумно проучила ее. Чему мы обязаны этой переменой смысла? Конечно, поэтическому рассказу, потому что, расскажи мы то же самое в прозе по рецепту Лессинга и не знай мы тех слов, которые приводила лисица, не сообщи нам автор, что у вороны от радости в зобу дыханье сперло, – и оценка нашего чувства была бы совершенно другая. Именно картиннось описания, характеристика действующих лиц, все то, что отвергали Лессинг и Потебня у басни, все это является тем механизмом, при помощи которого наше чувство судит не просто отвлеченно рассказанное ему событие с чисто моральной точки зрения, а подчиняется всему тому поэтическому внушению, которое исходит от тона каждого стиха, от каждой рифмы, от характера каждого слова. Уже перемена, которую допустил Сумароков, заменивший ворона прежних баснописцев вороной, уже эта небольшая перемена содействует совершенной перемене стиля, а между тем едва ли от перемены пола переменился существенно характер героя. Что теперь занимает наше чувство в этой басне – это совершенно явная противоположность тех двух направлений, в которых заставляет его развиваться рассказ. Наша мысль направлена сразу на то, что лесть гнусна, вредна, мы видим перед собой наибольшее воплощение льстеца, однако мы привыкли к тому, что льстит зависимый, льстит тот, кто побежден, кто выпрашивает, и одновременно с этим наше чувство направляется как раз в противоположную сторону: мы все время видим, что лисица по существу вовсе не льстит, издевается, что это она – господин положения, и каждое слово ее лести звучит для нас совершенно двойственно: и как лесть и как издевательство.
Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!..
Какие перушки! какой носок!
и т. д.
И вот на этой двойственности нашего восприятия все время играет басня. Эта двойственность все время поддерживает интерес и остроту басни, и мы можем сказать наверно, что, не будь ее, басня потеряла бы всю свою прелесть. Все остальные поэтические приемы, выбор слов и т. п., подчинены этой основной цели. Поэтому нас не трогает, когда Сумароков приводит слова лисицы в следующем виде:
И попугай ничто перед тобой, душа;
Прекраснее сто крат твои павлиньи перья
и т. д.
К этому надо еще прибавить то, что самая расстановка слов и самое описание поз и интонация героев только подчеркивают эту основную цель басни. Поэтому Крылов смело отбрасывает заключительную часть басни, которая состоит в том, что, убегая, лисица, говорит ворону: «О ворон, если бы ты еще обладал разумом».
Здесь одна из двух черт издевательства вдруг получает явный перевес. Борьба двух противоположных чувств прекращается, и басня кончается у Лафонтена, когда лисица, убегая, насмехается над вороном и замечает ему, что он глуп, когда верит льстецам. Ворон клянется впредь не верить льстецам. Опять одно из чувств получает слишком явный перевес, и басня пропадает.
Точно так же самая лесть лисицы представлена совсем не так, как у Крылова: «Как ты прекрасен. Каким ты мне кажешься красивым». И, передавая речь лисицы, Лафонтен пишет: «Лисица говорит приблизительно следующее». Все это настолько лишает басню того противочувствия, которое составляет основу ее эффекта, что она как поэтическое произведение перестает существовать.
«ВОЛК И ЯГНЕНОК»Мы уже указали на то, что, начиная эту басню, Крылов с самого начала противопоставляет свою басню действительной истории. Таким образом, его мораль совершенно не совпадает с той, которая намечена в первом стихе: «У сильного всегда бессильный виноват».
Мы уже цитировали Лессинга, который говорит, что при такой морали в рассказе делается ненужной самая существенная его часть, именно – обвинение волка. Опять легко увидеть, что басня протекает все время в двух направлениях. Если бы она действительно должна была показать только то, что сильный часто притесняет бессильного, она могла бы рассказать простой случай о том, как волк растерзал ягненка. Очевидно, весь смысл рассказа именно в тех ложных обвинениях, которые волк выдвигает. И в самом деле, басня развивается все время в двух планах: в одном плане юридических препирательств, и в этом плане борьба все время клонится в пользу ягненка. Всякое новое обвинение волка ягненок парализует с возрастающей силой; он как бы бьет всякий раз ту карту, которой играет противник. И наконец, когда он доходит до высшей точки своей правоты, у волка не остается никаких аргументов, волк в споре побежден до самого конца, ягненок торжествует.
Но параллельно с этим борьба все время протекает в другом плане: мы помним, что волк хочет растерзать ягненка, мы понимаем, что эти обвинения только придирка, и та же самая игра имеет для нас и как раз обратное течение. С каждым новым доводом волк все больше и больше наступает на ягненка, и каждый новый ответ ягненка, увеличивая его правоту приближает его к гибели. И в кульминационный момент, когда волк окончательно остается без резонов, обе нити сходятся – и момент победы в одном плане означает момент поражения в другом{42}. Опять мы видим планомерно развернутую систему элементов, из которых один все время вызывает в нас чувство, совершенно противоположное тому, которое вызывает другой. Басня все время как бы дразнит наше чувство, со всяким новым аргументом ягненка нам кажется, что момент его гибели оттянут, а на самом деле он приближен. Мы одновременно сознаем и то и другое, одновременно чувствуем и то и другое, и в этом противоречии чувства опять заключается весь механизм обработки басни. И когда ягненок окончательно опроверг аргументы волка, когда, казалось бы, он окончательно спасся от гибели, – тогда его гибель обнаруживается перед нами совершенно ясно.
Чтобы показать это, достаточно сослаться на любой из приемов, к которым прибегает автор. Как величественно, например, звучит речь ягненка о волке:
Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит…
Дистанция между ничтожеством ягненка и всемогуществом волка показана здесь с необычайной убедительностью чувства, и дальше каждый новый аргумент волка делается все более и более гневным, ягненка – все более и более достойным, – и маленькая драма, вызывая разом полярные чувства, спеша к концу и тормозя каждый свой шаг, все время играет на этом противочувствии.
«СИНИЦА»Этот рассказ имеет в своей основе как раз ту самую басню о Турухтане, с которой мы встретились у Потебни. Мы помним, что уже там Потебня указывал на противоречивость этой басни, что она разом выражает две противоположные мысли: первую – ту, что слабым людям нельзя бороться со стихиями, другую – ту, что слабые люди могут иногда побеждать стихию. Кирпичников сближает обе басни (61, с. 194). Следы этого противоречия сохранены и в крыловской басне: гиперболичность и неверность этой истории могла бы дать повод многим критикам для того, чтобы указать на всю невероятность и неестественность, которую Крылов допустил в сюжете этой басни. И в самом деле, она совершенно явно не гармонирует с той моралью, которой она кончается:
Примолвить к речи здесь годится,
Но ничьего не трогая лица:
Что делом, не сведя конца,
Не надобно хвалиться.
В самом деле, этого никак не следует из басни. Синица затеяла такое дело, в котором она не только не свела конца, но и не могла начать начала. И совершенно ясно, что смысл этого образа – синица хочет зажечь море – заключается вовсе не в том, что синица похвасталась, не доведя дело до конца, а в самой грандиозной невозможности того предприятия, которое она затеяла.