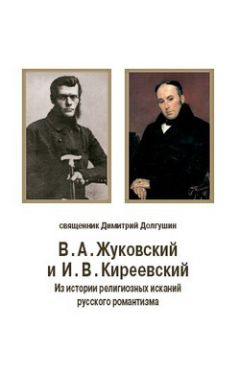Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
Во всей этой новелле, включающей в себя тщетные попытки героя спасти блудливую красавицу, Гоголь следует символической канве древнейшего гностического сюжета, возможно, усвоенного им непосредственно из св. Иринея Лионского или же, что более вероятно, из каких-то его популяризаторов. По словам Доддса, «в симонианском мифе бордель в Тире, в котором божественная Елена, забывшая свое имя и свой род, была обнаружена Симоном Магом (Iren. Adv. Haer., I, 23, 2), заменяет, очевидно, этот падший мир, где душа ожидает своего освобождения»[336]. Гностикам данный сюжет, несомненно, подсказала сквозная библейская метафора Общины Израиля или же Иерусалима (на ивр. – ж. р.) как коллективной невесты либо возлюбленной самого Всевышнего, изменившей Ему и ставшей блудницей; очистить ее может лишь покаяние, а спасти – только Творец. В христианской аллегорике последнего заменил жених-Христос, а невестой предстает либо христианское сообщество в целом – Церковь Христова – либо индивидуальная душа человека. Отсвет этой трактовки лежит и на гоголевской повести с ее незадачливым спасителем.
В «Невском проспекте» проститутка сравнивается с «неоцененным перлом», с «бесценной жемчужиной», упавшей в море. Эта затонувшая жемчужина – тоже гностическое по происхождению, идущее от «Гимна жемчужине» в «Деяниях Фомы» обозначение потерянной, плененной миром души – а также Слова, Христа, «Тайны жизни» и проч.[337], – очень частое, впрочем, и в святоотеческой литературе (Ефрем Сирин, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Симеон Новый Богослов, Иоанн Дамаскин, Роман Сладкопевец, Феодор Студит и др.); оттуда оно, при посредстве Беме, перешло к масонам, а затем ко многим русским романтикам. Соответствующий мотив промелькнул и в уже встречавшихся нам сумрачных стихах Мейснера – «Земля и люди сердцу чужды, Их перл божественный исчез».
Плачевная участь плененной Эннойи или Софии описывалась и при содействии иных, но тоже традиционно-гностических метафор, иногда опосредованных Гофманом. Адельгейда, героиня повести Н. Полевого «Блаженство безумия» (1833), наделенная блистательными – в первую очередь музыкальными – дарованиями и глубоким поэтическим чувством, символизирует небесную «гармонию», которая вещает ее устами. Однако девушку использует в корыстных целях ее сатанинский отец, выведенный под прозрачной фамилией Шреккенфельд. Влюбившийся в Адельгейду юноша Антиох, который называет ее половиной своей собственной души, убежден, что его подругу околдовал и поработил этот «злой демон», ее «мнимый отец»: «Мысль неба хранилась в моей половине души, но это был луч, упавший в бездну мрака»[338]. По сути, это тот же самый «демон» и та же самая бездна («пучина»), о которых вскоре будет говорить Гоголь в «Невском проспекте». Тщетно герой Полевого надеется вызволить возлюбленную – та умирает, и он воссоединится с нею только после своей кончины.
Какие бы споры ни велись вокруг лермонтовского «Штосса» с его романтически-натуралистической или псевдореалистической двойственностью мотивировок, не подлежит сомнению сильнейшая зависимость текста от той же гностической традиции, пропущенной через Гофмана. Но к этой повести мы обратимся в последней главе.
Само избавление от демонов повседневности, о котором помышляет романтик, нередко носит заведомо иллюзорный характер, сообразный романтическому канону пресловутого двоемирия. Напомним, что гоголевский Пискарев сумел противопоставить невыносимой «существенности» лишь свои наркотические миражи, где незнакомка представала домашней музой художника, хозяйкой его приватного «рая»; но безнадежной оказалась его реальная, заданная гностическим прецедентом попытка спасти блудницу, женившись на ней, а потому отчаявшийся герой кончает с собой. Разумеется, его добровольная гибель с христианской точки зрения выглядит неискупимым грехом, но, по сути дела, она не слишком отличается от участи Антиоха, который снискал в смерти долгожданный выход. Другим выходом в подобных ситуациях виделось само творчество – но и оно не спасало от жизни.
9. Двунаправленность зиждительной Мысли и варианты ее олицетворения
Русские шеллингианцы, как известно, охотно стирали грань между любомудрием и художественным творчеством. По словам В. Титова, «всякая истинная поэзия приводит нас к идеям философии, и, обратно, всякая философия истинная дает нам утешительное, пиитическое воззрение на все сущее»[339]. Пример искомых «пиитических воззрений» в философии вскоре явил М. Павлов, у которого немецкий панэстетизм получил обычную в России креационистскую трактовку, ориентированную на Книгу Бытия. Искусство есть «особый мир, мир понятий и мыслей, обращенных в предметы. Мир сей отличен от целой вселенной, принадлежащей к одной эпохе творения. Это позднейшее создание – новая природа, зиждитель оной – человек, венец, краса природы Творческой, отражение премудрости Зиждителя вселенной»[340]. Другими словами, «новую природу» романтик продуцирует именно потому, что, в отличие от классициста, он уподобляется природе не «старой», а «творческой», т. е. самому Создателю.
Эту интерпретацию романтизма поддерживает И. Давыдов, покладистый эклектик, тянувшийся в то время к шеллингианству. Выступая в конце 1829 г. в Обществе любителей российской словесности, он противопоставил агонизировавшему классицизму с его вечным «подражанием натуре» (как бы сложно на самом деле ни толковалось такое подражание) иное, самобытное искусство, порождающее духовные галактики. Получилась религиозная дихотомия в чисто романтическом вкусе: языческий или неоязыческий классицизм, приверженный внешней, плотской природе, упраздняется эстетическим спиритуализмом, который продолжает в своей сфере дело божественного творения – разумеется, с опорой на великих предшественников наподобие Гайдна и Рафаэля (которых романтики уже записали в собственные святцы):
Минерва, рожденная из головы Зевса вся вооруженная – вот эмблема произведений нашего духа, – возвестил Давыдов. – Творения, носящие на себе знамение бессмертной души и выраженные способами, из природы заимствованными, принадлежат изящным искусствам. Подражание звукам, какие слышим, и очертаниям, какие видим в природе, не составляют музыки и живописи; но Гайденова мысль сотворения мира, звуками выраженная, или Рафаэлева Мадонна, в образе смертного представленная – суть изящные произведения. Так и созерцания духа или идеалы, выраженные словом, суть образцы изящной словесности. Дух наш <…> творит и свою природу, и свое человечество. Сей мир, населенный иными существами, творениями духа, есть мир эстетический <…> В сих понятиях о словесности господствует уже иная мысль, подчиняющая уже вещественное духовному – мысль, которая существу, одаренному бессмертной душою и волею, возвращает его права – не подражать бренным существам, а творить или выражать бессмертные идеалы в изящных искусствах[341].
В 1827 г. МВ перевел одну из иностранных рецензий на «The Last Man» – новую книгу «автора Франкенштейна». Среди прочего здесь содержался близкий молодым русским романтикам панегирик демиургическому дару, отличающему великих писателей (Мэри Шелли к ним в статье отнюдь не причисляли): «Гений есть самый могущественный из чародеев; он, кажется, получил свыше часть той силы творящей, которая все извлекла из ничтожества. Его произведения, даже самые странные, ознаменованы печатию существенности, заставляющей забывать наш привычный мир с его непреложными законами и его однообразным ходом»[342].
Обычным адекватом или орудием «творящей силы» была все та же вдохновенная мысль, соприсущая художнику либо нисходящая к нему в более или менее персонифицированном виде. Естественно, что эта райская гостья, София или Гармония, отождествлялась с самой фантазией. Этот вариант мы уже затрагивали, говоря об «Арете» Раича, где «воображение», впрочем, остается довольно безличным. Когда же речь шла о более-менее персонифицированном «посетителе» или «госте» с небес, парадигмой для темы служили знаменитые стихи Жуковского – «К мимопролетевшему знакомому Гению», «Лалла Рук» и пр.; но его младшие современники иногда заостряли мотив эфемерности или мимолетности, присущей таким эпифаниям. Сбивчиво-многопланную вариацию этого образа мы найдем у молодого Полежаева в пространном одическом стихотворении 1825 г. «Гений», архаичном по аранжировке и кое-каким мотивам (разбор которых мы опускаем), но весьма интересном за счет своей новой, романтической проблематики.
Кто сей блестящий серафим,
Одетый облаком лазури,
Лучом струистым огневым,
Быстрее молнии и бури
Парящий гордо к небесам?..
<…>
Он бросил взор негодованья
На сон природы, на себя,
На омертвелые созданья.
«Я жив, – он рек, – я человек,
Я неразрывен с небесами!»
И глубь эфирную рассек
Одушевленными крылами.
<…>
Уже он там, достиг небес,
Мелькнул незрим в дали туманной,
И легкий след его исчез,
<…>
Кто ж он, сей странник неземной?
Великий ум, парящий гений!
Раздайся, вечность, предо мной!
Покровы мрачные, спадите!
И вслед за истиной святой,
Душа и разум мой, парите!
О гений мира и любви,
Первоначальный жизни датель,
Не ты ли неба и земли
Непостижимый есть создатель?
Не ты ли радужным перстом
Извлек вселенную из бездны,
Не ты ль в пространстве голубом
Рассеял ночь и день подзвездный,
Не ты ль Гармонию низвел
На безобразные атомы
<…>
О дел бессмертных красота!
Венец премудрости глубокой,
<…>
Восторг в груди моей кипит,
Я полн возвышенных мечтаний,
Творец, Твой дух со мною спит,
Я исполин Твоих созданий!
Изображенный тут персонаж проходит череду трансформаций, отразивших некоторую растерянность раннего романтизма перед двойственной перспективой – обычной метафизической ностальгией или мечтой о собственном креативном величии. Сначала «гений» – это гордый «серафим», который, вознесшись в небо, мгновенно и необратимо растворяется в родных эмпиреях; но вместе с тем это и обобщенный человеческий «ум», с эскапистским восторгом отторгающийся от мира (столь же «омертвелого», как и тот, что позднее появится в гоголевском «Портрете» или у Раича). Туда же, ввысь, устремляются «душа и разум» самого героя, так что его вожатый-«гений» обретает вроде бы обычный статус alter ego, окрыляющего мечтателя. Но затем образ персонального «гения» сразу же идентифицируется с библейской зиждительной Премудростью, претворившей некогда первобытный хаос в гармонию; и, наконец, герой открыто отождествляет самого себя с этим божественным творческим началом, разлитым в его духе. Иначе говоря, тут проглядывает установка на самосакрализацию, если не на прямое самообожествление поэта.