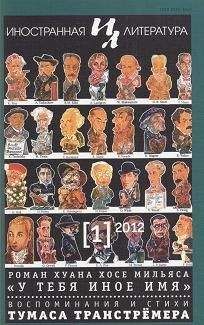Наталья Иванова - Точка зрения. О прозе последних лет
Искандер подчеркивает физический расцвет, красоту и здоровье, вечную молодость героев романа. Жизнь бьет через край, не удовлетворяется обычным стандартом. Торжествуют цветение и роскошь телесного — будь то могучие юные великанши, или волоокая, по-южному ленивая, великолепная красавица Даша, чья рука от лени свешивается с балкона, как цветущая гроздь, или сам дядя Сандро с его подчеркнутой физической красотой, или прекрасная княгиня-сванка. Если любимая дочь дяди Сандро, красавица и лучшая на свете низальщица листьев табака Тали рожает, так обязательно двойню — прекрасных мальчиков. Для Искандера не существует отдельной «духовности» и отдельной «телесности» — радость здорового чувства, как тяга, возникающая между Багратом и Тали, естественна и потому прекрасна, законна по высшим законам природы, и они не могут ей не подчиниться, несмотря на негодование и запрет родни. А кедр, под которым они провели свою первую ночь, считается теперь в Чегеме священным, способствующим деторождению, плодоносности.
«В шутливой форме, — замечает автор, — чегемцы умели обходить все табу языческого домостроя. Я даже думаю, что бог (или другое не менее ответственное лицо), вводя в жизнь чегемцев суровые языческие обычаи, в сущности, применял педагогическую хитрость для развития у своих любимцев (чегемцы в этом не сомневаются) чувства юмора». И действительно, тяжкие, казалось бы, обычаи — умыкание невесты, беспрекословное подчинение старшим по роду и т. п. — остроумно обходятся теми, кто проявляет твердую волю и стремление к счастью. В этом мире нет места унынию, пессимизму, меланхолии. Постоянная близость к земле, единство с природой, крестьянский труд не позволяют человеку, расслабившись, предаваться беспочвенным размышлениям. Человек должен действовать — и только тогда он приблизит свое собственное счастье. Мир Чегема — мир деятельный, и смех здесь так же сопровождает труд, как труд сопровождает смех. Еще в «Созвездии Козлотура» молодой тогда автор писал о своем «главном корне»: «Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все богатство держит при себе».
Смеховое начало в этой прозе органически соединено с лирическим. Это лирическое начало выражено прямо, через лирического героя-повествователя, от лица которого были написаны многие рассказы о детстве. Искандер всегда сопротивлялся роли юмориста-развлекателя, от которого публика вечно требует чего-нибудь веселенького. Легче всего было бы закрепиться в этой роли в сознании читателя и благополучно ехать на таком коньке до окончания дней своих, поддаться «социальному заказу» уважаемой публики. Тем более что юмор первых вещей Искандера настраивал на эдакий «среднекавказский» анекдот — с набором обязательных хохм, приключений, ситуаций. Но Искандер, «окопавшись» на этой площадке, взорвал ее изнутри.
Что может быть, скажем, забавнее, чем анекдотический рассказ про сумасшедшего, но вполне безобидного дядюшку, которого вечно поддразнивает юный племянник? Про дядюшку, любимым лакомством которого является лимонад с двойным сиропом? Распевающего свои песенки без слов, называющего и кошек, и собак одним словом «собака» и радостно кричащего им «брысь»? Дядюшку, безнадежно влюбленного в самую некрасивую женщину со всего двора? Дядюшку, который восторженно принимал крупную фотографию известного лица в газете или памятник ему же в сквере за себя самого? Дядюшку, которого племянник пионер, отравленный книгами о майоре Пронине, какое-то время считал-таки диверсантом?
«— Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.
Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин… — Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.
— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения».
В этот, только на самый поверхностный взгляд могущий показаться юмористическим рассказ, при чтении которого, однако, вы не можете удержаться и от смеха, и от тяжких размышлений о времени конца 30-х годов, и от спазма в горле, Искандер вложил всю силу и мощь своего лирического чувства. От самых смешных и нелепых ситуаций он резко переходит к судьбе и оценке своего нелепого героя, который оставался человеком — а это, по шкале этических ценностей Искандера, единственно ценное и великое. «Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города — я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемодан, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны холодящий грудь. Бабушка попыхивает цигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.
Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц».
Смеховое начало у Искандера в высшей степени демократично. Смех его не направлен сверху вниз, от автора или лирического повествователя — к герою. Он «работает» на всех уровнях: направлен и от героя на героя, и даже — от героя на повествователя, на авторское «я». Дядя Сандро конечно же посмеивается над богатым армянином. Но и армянин, несмотря на все свои потери, смеется над важничающим дядей Сандро. Молодой повествователь, познакомившийся с дядей Сандро, прячет в углах губ усмешку по поводу того, что старик требует новые галоши, дабы не ударить в грязь лицом перед газетчиком. Но ведь и дядя Сандро не скрывает своей насмешливости и по отношению к повествователю, владеющему лишь чернилами в собственной ручке, которому он легко морочит голову рассказами о своих приключениях. Читатель смеется и над дядей Сандро, и над рассказчиком, — но ведь и они смеются над читателем, принимающим эти приключения за чистую монету! Смех Искандера не признает никакой иерархии и никаких границ.
Вольно-веселая атмосфера праздника определяет и его принципиальный демократизм, и сюжеты, образы, саму интонацию рассказа.
Большинство глав романа либо повествуют о пире, либо рассказаны на празднике, на пиру, либо завершаются праздником. Богатый армянин вынужден устроить застолье, перерастающее в пир, на котором грабители соревнуются в тостах с защитником Сандро. Дядя Сандро, устраивая ужин для рассказчика, сам собирается на свадьбу («Дядя Сандро у себя дома»). Помощник лесника устраивает походный пир прямо на крышке радиатора («Хранитель гор»). Когда смертельно больной дядя Сандро чувствует себя чуть получше, устраивается большой пир, а постель больного перетаскивается к пирующим («Дядя Сандро и его любимец»). Наконец, во время соревнования-праздника за честь лучшей низальщицы листьев табака «умыкают» Тали («Тали — чудо Чегема»). Новеллы, составляющие роман, по характеру и тону близки веселой народной дьяблерии: недаром и красавицу Дашу называют «дьяволос», да и смеющаяся Тали с гитарой, сидящая на яблоне, уподоблена колдунье, завораживающей путников. Веселая праздничность жизни смеется над смертью, над болезнью, побеждая и укрощая их: недаром веселье у постели больного укрепляет его дух и поднимает в конце концов на ноги. А сны, которые видит тетя Катя, «свежие, как только что разрытая могила»? В них легко действуют и жители «того мира»: «Они вели себя примерно так, как крестьянин, надолго, может быть, навсегда, застрявший в больнице, при встрече с близкими дает им хозяйственные указания по дому, чувствуя, что они все сделают не так, как надо, и все-таки не в силах отказаться от горькой сладости укоряющего совета». Все это свидетельствует о могучем народном инстинкте. «Нигде не услышишь столько веселых или даже пряных рассказов о всякой всячине», как на поминках, утверждает автор; «вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладостно целоваться на кладбище среди могильных плит». Непринужденной атмосферой поминального праздника, оказывается, «довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается»!