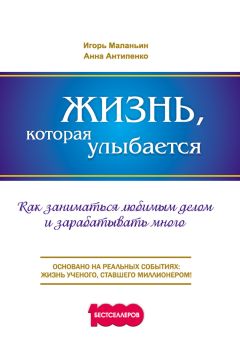Лев Лосев - Как работает стихотворение Бродского
Начиная с конкретного, хотя и весьма оригинального, описания места действия, Бродский, можно сказать, следует одному из требований жанра эклоги. В то же время, двигаясь от мира природы к человеческому миру, к условиям изгнания, к чувству утраты, к изображению мира, в котором доминирует мотив отсутствия («Пустота, ни избы, ни двора, / шум листвы, ни избы, ни землянки»[250]), стихотворение предвещает нечто особенно характерное для более поздней поэзии Бродского: пейзаж, который предстает опустошенным, и «пространство, сплошь составленное из дыр, оставленных исчезнувшими вещами»[251]. В целом это можно назвать стихотворением о пространстве и восприятии, большая часть его образов направляет взгляд читателя вверх или вниз, искажает размер предметов или относится к местоположению человека или предмета в окружающей обстановке.
Не то чтобы описанные здесь особенности «Полевой эклоги» отсутствовали в двух позднейших эклогах, но в них возникают еще и другие элементы, да и между собой они различаются. Новое определение пасторали, основанное более на функциональности, чем на тематике или форме, позволило У. Эмпсону[252] провести различия между «несколькими вариантами» пасторали, примеры которых он находит в таких несходных текстах, как «Сад» Марвелла и «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. «Эклога 4-я <…>» и «Эклога 5-я <…>» также являются несходными вариантами пасторали. Как и в «Полевой эклоге», природный пейзаж — основное место действия «Эклоги 5-й <…>», которая, однако, глубже исследует взаимоотношения личности и мира природы. Сюжет «Эклоги 4-й <…>» — время, и пейзаж в ней хотя и дается, но скорее символический, чем реальный. «Эклога 4-я <…>», хотя она и написана раньше, таким образом более абстрактная, наименее «пасторальная», поскольку в конечном счете это концептуальный текст, в котором поразительный эффект достигается противопоставлением физических и метафизических образов[253]. С другой стороны, «Эклога 5-я <…>», хотя ее образность более конкретна и, таким образом, более связана с ранней «Полевой эклогой», всё же посвящена не только пространству, но и времени, не только чувственному миру, но и сущности языка.
И вот именно здесь проявляется связь с Вергилием. Как указала Е. Лич[254], пейзажи в эклогах римского поэта двух видов — естественные (приблизительно как у Бродского в «Эклоге 5-й <…>») и иные, как в «Эклоге 4-й <…>», более фантастические, менее «настоящие». К тому же, сравнивая Вергилия с его предшественником Феокритом, многие комментаторы[255] показали, что поэзия Феокрита более описательна, менее озабочена важными идеями, в ней отсутствует конфликт города и деревни и подспудная критика современных порядков, отличающая эклоги Вергилия. Кажется, что идиллии Феокрита развертываются в вечном настоящем, тогда как эклоги Вергилия демонстрируют куда большую озабоченность временем, будь то время уходящего дня, смена времен года или исторических эпох[256].
Взаимодействие человеческих забот и природного ландшафта, использование пасторального места действия для рассмотрения серьезных проблем и, в особенности, проблемы времени объясняют, интерес Бродского к Вергилию. Характерно, какие строки из четвертой эклоги Вергилия берет он эпиграфом к своей «Эклоге 4-й <…>»: «Ultima Cumaei venit iam carminis aetas; / Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo» («Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской, / Сызнова ныне времен зачинается строй величавый». Перевод С. Шервинского)[257]. Как пишет М. Патнэм[258], эти строки замечательны тем, что вносят в пасторальную поэзию тему времени в более глубоком, прежде данной традиции неизвестном, смысле, поскольку здесь речь идет не о смене времен года, а о начале новой эры.
Хотя тема «Эклоги 4-й <…>» Бродского — тоже время, он вряд ли разделяет оптимизм Вергилия относительно надвигающейся новой эры. Не один, а целых три раза он начинает строки словами «Жизнь моя затянулась…», в образах холода имплицитно присутствует намек на смерть, будущее устремлено к небытию. И все же стихотворение не лишено и своего рода проблеска надежды. Поэт славит Север, который он называет «честной вещью». Эхо Вергилия, упоминания бюста в нише (строка 55) перекидывают мостик к античной классике, которая предстает своего рода застывшей вечностью[259]. Отождествляя прошлое с культурой, Бродский склонен смотреть назад с большей симпатией, чем вперед, в будущее[260]. И в конце стихотворения, где говорится о самой поэзии, звучит сильная оптимистическая нота:
И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.
Так родится эклога. Взамен светила
загорается лампа: кириллица, грешным делом,
разбредаясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
знает больше, чем та сивилла,
о грядущем. О том, как чернеть на белом,
покуда белое есть, и после.
(123)
Как это для него характерно, он конкретизирует этот пеан во славу языка, ассоциируя его с визуальными качествами алфавита. Ранее в стихотворении он упоминает известную живопись белым по белому Малевича, здесь буквы кириллицы чернеют на белизне, они заполняют пустоту листа и, таким образом, по-своему отрицают смертную пустоту.
Возвеличение языка, очевидное в этих строчках, — постоянная тема в творчестве Бродского, это отчасти даже «идолизация языка»[261]. «Эклога 5-я <…>» посвящена противоположному времени года, лету, но и там сходное отношение к языку, и она завершается упоминанием лингвистических знаков (в последней строфе упоминаются клинопись и иероглиф), что вновь наталкивает на мысль о поэзии, которая вот-вот родится. На протяжении большей части 5-й эклоги, однако, наиболее поразительная образность возникает из пристального внимания к мельчайшим явлениям, которыми вдохновляются суждения самого широкого масштаба:
Жизнь — сумма мелких движений. Сумрак
в ножках осоки, трепет пастушьих сумок,
меняющийся каждый миг рисунок
конского щавеля, дрожь люцерны,
чабреца, тимофеевки — драгоценны
для понимания законов сцены,
не имеющей центра.
(124)
Отсутствие центра, ощущение того, что мы и не догадываемся о степени сложности жизни, усиливается тем, что четыре части стихотворения представлены с различных точек зрения; вот еще один аспект стратегии дистанцирования, отказа Бродского предоставлять наиболее выгодную позицию своему лирическому герою (или для взгляда на своего лирического героя)[262].
Безусловно, мироощущение Бродского очень современно, его представления о языке, времени и природе совершенно иные, нежели у Вергилия. И все же, в этих двух разных пасторалях, в более абстрактной и философичной «Эклоге 4-й <…>» и в более конкретной и пасторальной «Эклоге 5-й <…>», Бродский и выдает свое увлечение античностью и отдается ему. Классические аллюзии и прямые указания на классику встречаются на протяжении всего текста. Так, в заключительной части «Эклоги 5-й <…>» неожиданно возникает ссылка на греческого поэта Симонида. Время дня, описанное в этой части, сумерки, напоминает о том, что пять из десяти Вергилиевых эклог заканчиваются наступлением вечера[263].
Но решающее значение имеет то, что в Вергилии Бродский нашел родственную душу. В конце концов, «Пятая эклога» Вергилия посвящена двум певцам, которые стараются превзойти один другого, воспевая Дафниса, и стихотворение движется от упоминания о трагической смерти в начале к завершению на оптимистической ноте, на песне. Во многих отношениях это именно то, что делает и Бродский в своих эклогах, переходя от мрачных размышлений о природе и времени к утверждению силы языка и поэзии. Эклоги Бродского никоим образом не подражания, но произведения художника, которого заботят те же вопросы, что занимали его предшественника, а форму эклоги он использует для того, чтобы воздать должное классической традиции и поразмыслить о ней.
Биллем Г. Вестстейн (Голландия). «МЫСЛЬ О ТЕБЕ УДАЛЯЕТСЯ, КАК РАЗЖАЛОВАННАЯ ПРИСЛУГА…» (1985)
* * *
Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга,
нет! как платформа с вывеской «Вырица» или «Тарту».
Но надвигаются лица, не знающие друг друга,
местности, нанесенные точно вчера на карту,
и заполняют вакуум. Видимо, никому из
нас не сделаться памятником. Видимо, в наших венах
недостаточно извести. «В нашей семье, — волнуясь,
ты бы вставила, — не было ни военных,
ни великих мыслителей». Правильно: невским струям
отраженье еще одной вещи невыносимо.
Где там матери и ее кастрюлям
уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!
То-то же снег, этот мрамор для бедных, за неименьем тела
тает, ссылаясь на неспособность клеток —
то есть извилин! — вспомнить, как ты хотела,
пудря щеку, выглядеть напоследок.
Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
дребезжа, как сдаваемая посуда.
1985
«Мысль о тебе <…>» — последнее стихотворение из сборника «Урания» (1987). В сборнике, изданном по-английски, «То Urania» (1988), включившем авторские переводы Бродским собственных стихотворений, среди которых и «Мысль о тебе <…>», данное стихотворение появилось под названием «In Memoriam». Поскольку имени не названо, то остается неясным, по крайней мере — из названия, о ком вспоминается или чьей памяти посвящено стихотворение.

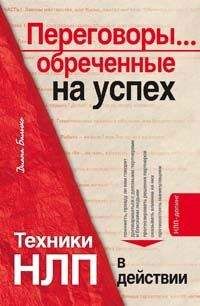
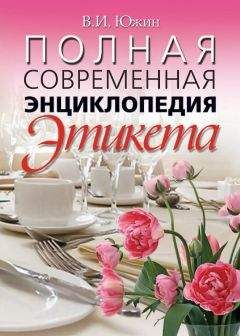
![Ирина Хакамада - Success [успех] в Большом городе](/uploads/posts/books/196023/196023.jpg)