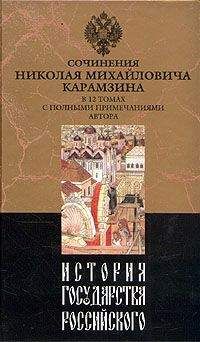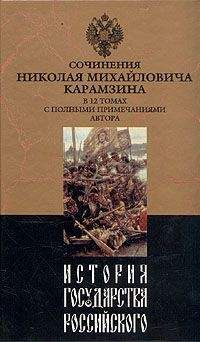Михаил Фонотов - Каменный пояс, 1987
* * *
После юности шумной, пылкой,
солнце тихо вползло в зенит.
Стариной тряхну, как копилкой,
и послушаю — не звенит.
Бестолковый и бессловесный,
бывший мною, любил сильней.
Был отчетливей свод небесный,
и речная вода — синей.
Но желать не могу возврата
к тем годам, где гадал о том,
что случится со мной когда-то, —
все случилось в свой срок, потом.
В газетенке, где объявления,
напечатаюсь в пару строк:
«Обменяю свои волненья
на покой…» Да всему свой срок.
Реки синие почернели,
листопадный промчался пал.
И внезапный, как печенеги,
снег с неясных небес упал.
* * *
Снег за окном — как белая полива.
Мороз-гончар все в печь свою составил.
А яблоня, как скомканная лира,
дрожит, колдует, чтобы снег растаял.
Дикарка, и породою, и нравом,
нашептывает стенам и карнизам,
разжалобила крышу, ту, что справа, —
весь двор теперь сосульками унизан.
Не тот ли отзвук яблоневой смуты
я узнаю, когда, пальто снимая,
ты спрашиваешь взглядом: «Почему ты
не обратил январь в начало мая?»
Сергей Жмакин
МАТЬ
Рассказ
Молодой фотокорреспондент областной газеты Юра Костромин возвращался из командировки.
Предъявив контролеру билет, он вошел в «Икарус» и занял свое место у окна, с привычной заботливостью устроив кофр с фотоаппаратами возле ног. Ехать предстояло более двух часов, и Юра уже заранее предвкушал, как вздремнет в удобном кресле комфортабельного автобуса. Сегодня он проснулся ни свет ни заря. Редакции потребовался фоторепортаж о весеннем бороновании, и ранним утром Юра одиноко потопал по пустым, холодным улицам на вокзал, чтобы первой электричкой отбыть в отдаленный район.
У тракториста, которого Костромин снимал, было открытое, улыбчивое лицо. Юра любил такие лица.
Пассажиры заняли места, автобус мягко тронулся и покатил. Костромин нажал кнопку, вделанную в подлокотник, и спинка кресла отщелкнулась назад. Юра глядел в окно, где мелькали окраинные дома районного центра, и им владело блаженное состояние расслабленности и покоя.
Автобус вывернул на шоссе, набрал скорость. По краям дороги чернели влажные поля, еще не вобравшие в себя досуха растаявший снег. Апрельскому солнцу мешали облака, но оно пробилось сквозь них, и на Юру упал яркий луч. Костромин закрыл глаза. Негромко и ровно гудел мотор. Юра задремал, ощущая кожей весеннее тепло.
Кто-то коснулся его руки, он очнулся.
— Че ли разбудила я тебя, парень? На-ко вон фуражку, а то упала, — услышал он женский голос.
— Спасибо. — Костромин взял свою кожаную кепку, соскользнувшую с колена.
Рядом с ним сидела женщина, по виду деревенская.
— Ты, случаем, не сын Николаю Михайлычу? — спросила женщина.
— Какому?
— Ну, на вокзале-то вместе стояли…
— А, нет, — ответил Костромин. На автовокзале его провожал работник райкома.
— Ха-а-роший мужчина. Дельный такой. У людей он сильно в почете, — сказала женщина. — А я думала… Вы вроде как похожи.
— Нет, — сухо повторил Юра и отвернулся к окну. Ему не понравилось, что его разбудили.
Автобус несся вдоль степного озера. Оно сливалось вдали с белыми, как молоко, облаками, и нужно было прищуриться, чтобы увидеть в разлитом просторе тонкую нить другого берега. Ветер гнал по озеру мелкую рябь, теребил заросли сухого камыша. Кое-где в воде мелькали грязные куски льда.
Юру опять потянуло в сон. Он сложил на груди руки и склонил на них голову.
— Вот и перезимовали зиму-то, — сказала женщина. — Ох и долгонькой она показалась, не дай-то бог.
«Что ты будешь делать, — раздраженно подумал Юра. — Какой болтливый народ, эти женщины!»
Он зашевелился в кресле, как бы устраиваясь поудобней, и даже сонно причмокнул губами.
— А как зимовали? — тихо продолжала, словно жалуясь, женщина. — Кормов, конечно, маловато было, но ежели беречь да не транжирить попусту, сдюжить можно. У других, говорят, коровушки еще пуще голодали, какое уж там молоко. А наш колхоз — ничего, план выполняет. Одна вот беда. Ферма наша уж больно далеко от села, километров за пять. А транспорту нету. Раньше на дойку хоть в кузове возили, а теперь и в мороз, и в грязь — все одно пешком. Машина, говорят, сломана. А по весне дорога-то на ферму хуже болота…
Она вздохнула и замолчала.
Юра живо представил женщин, с трудом пробирающихся по глубокой грязи: чавкают в густой холодной жиже резиновые сапоги, слезятся от ветра глаза, руки зябко спрятаны в карманы фуфаек.
Юра не выдержал:
— Почему у вас ферма-то так далеко? — грубовато спросил он. — Что за ферма такая?
— Дак когда ее строили, так тогда рядышком деревня жила, — охотно отвечала попутчица. — А теперь деревня оскудела людьми-то, старики да старухи остались, робить некому, вот мы и бегаем туды-сюды…
— Ну, а председатель ваш, куда смотрит?
— Жаловались бабы ему. Потерпите, говорит, автобус вскорости, мол, должны получить. Вот уж год и терпим. Утром ранехонько надо и со своей скотиной управиться, и на дойку поспеть. Вечером опять бежишь…
— Но это же непорядок, — сказал Костромин. — Если ваше начальство не хочет о вас позаботиться, то пишите жалобу. Куда-нибудь повыше. Сейчас на письма и жалобы трудящихся обращают большое внимание.
— Жалобу? Да ну!… — махнула рукой женщина. — Нас потом свои же и запозорят. Клавдия, помню, написала в газету, что кормораздатчик не ремонтируют, так люди на нее потом пальцем показывали. Она, бедная, не знала куда от стыда деваться.
— А кормораздатчик починили?
— Сразу же. Но получилось-то как… Бригадир говорил, мол, и без жалобы отремонтировали бы, ждали какую-то запчасть. Клавдия и окажись виноватой: шум подняла, колхоз запозорила. Ее же и костерили потом на чем свет стоит. Ой, стыдобушка-то! Уж лучше потерпеть да промолчать.
— Вот так каждый боится чего-то, помалкивает, а бесхозяйственность процветает, — с досадой сказал Костромин. — Но за себя-то вы можете постоять? Неужели вам не надоело бегать за столько верст на работу. Вас целый коллектив. Взяли бы и посидели один денек дома. Глядишь, руководство бы ваше и зашевелилось…
— Ой, парень, да ты чего? — тихо воскликнула женщина. — Как дома сидеть? Кто ж доить-то будет?
— Отдохните. Пусть вокруг вас побегают.
— Так молоко ведь испортится. Ты, поди, любишь молочко-то?
— Да, — усмехнулся Юра. — И кефир люблю, и сметану с сахаром. Но я потерплю.
— Ты-то потерпишь, а коровы?
— Что коровы?
— Они же не доены будут. Заревут. Жалко ведь.
— Ну, это другое дело, — пробормотал он и расстегнул куртку.
— Я вот еду сейчас в город-то, а сердце не на месте, — продолжала женщина. — Еле подмену себе нашла, и то уж очень ненадежную. Выпивает подмена-то. Вот беда. И как тут спокойной быть? А вдруг загуляет?
— Да, да, конечно, — сказал Юра. Спать ему расхотелось. Он внимательно и с интересом вгляделся в попутчицу.
Она годилась ему в матери. Нарядный платок сбился на плечи и открыл темно-русые волосы, собранные на затылке в тугой узел. На лице — круглом и курносом, с морщинками под глазами — лежала тень озабоченности и какой-то внутренней боли. Разговаривая с Юрой, женщина все время словно прислушивалась к себе.
— Что же, и больше некому подменить?
— А кто подменит? На ферме рабочих рук не хватает. Это мы, старой закалки, еще держимся, а молодежь на ферму не больно охотно идет, на нашу уж и подавно. Не в почете нынче работать дояркой.
— Почему же не в почете? О вас и в газетах пишут, и зарплату вам добавили.
— Да, пишут… Это верно, — согласилась женщина и вдруг улыбнулась: — Обо мне тоже писали, — сказала она с простодушной гордостью, заливаясь легким румянцем. — Даже показать могу.
Она поставила на колени потертую сумку и стала рыться в ней.
— Где-то здесь она была, газетка-то, — приговаривала женщина. — Взяла с собой. А что? Работает наше звено хорошо, врать не буду. План мы надаиваем, а то и больше. Здесь и фотокарточка напечатана. — Она нашла наконец в сумке районную газету, сложенную в несколько раз, потрепанную на сгибах, развернула. — Вот наше звено.
С небольшой газетной фотографии, плохое качество которой профессионально отметил Костромин, на него глядела группа женщин в белых халатах.
— Где же вы?
— Да вот, — показала женщина пальцем. — Сбоку-то. И фамилия моя даже тут есть, внизу — А. И. Мухина.