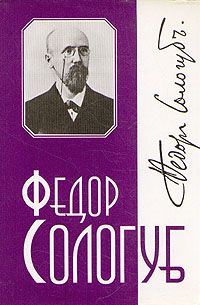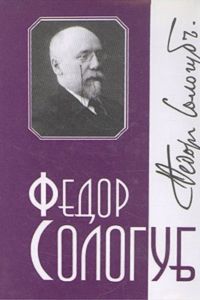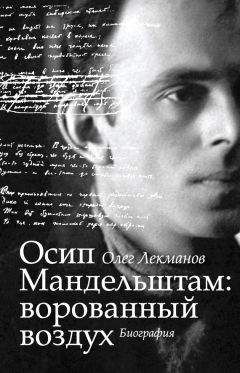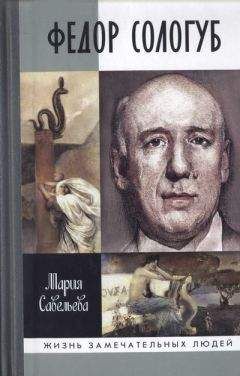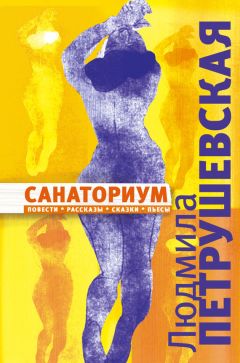Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух
Жизнь слишком засрана, чтобы медлить мириться с тем, что «правильно» и что «грамотно». Ключевые слова русского неоконсерватизма. Сможет ли новый текст рожать, покажет вскрытие. Мобилизованы батальоны рожениц. Выяснилось: не хватает женщин.
В новом тексте вдруг все «женское» стало интересным. Интерес распространяется не только на женщин, но и на становящиеся и на распадающиеся организмы, нелюбезные в целом русской литературе: на девочек, на старух. Женщины из мелочей, плюс мелочности, создали Бога детали. Привлекает каждая «трещинка», каждый раскрученный крем против морщин, всякое психологическое состояние.
Из объекта культуры, которым они являлись, женщины становятся ее субъектом. Раньше ими восторгались, выносили им приговоры, бросали под поезд, все делалось за них. Их роль в русской прозе маргинальна. Ни одна не стала Достоевским. Культовые имена русских поэтесс — при всех их достижениях — невозможно связать с онтологическими открытиями. (Правда, была, вне поэтов, Блаватская.) В лучшем случае, они были внеисторичны. Большой мемуарный суд, который женщины-жены впоследствии сотворили, был судом над мужской историей. Они объявили себя ее жертвами. Это был необходимый внеисторизм, его не хватало России. Но альтернативы, кроме своего курсива, они не предложили. Они были во многом несправедливы, потому что находились в другом измерении. Мужской взгляд был всегда объемнее, мужчина владел ситуацией. Но к концу века женщины сохранились лучше. Коллективная вина пала на мужчин.
От кого рожать?
Антиномия «женщина — мужчина» выстраивается в новом тексте как антиномия «ищущая — нашедший», «видящая — невидящий», «становящаяся — остановившийся». Волнующейся, перебирающей разные возможности, трепетной молодой героине противостоит устойчивый, буреющий/забуревший герой среднего возраста.
«Это, — но мнению Виктории Фоминой, — нормальный, земной, настоящий мужик. Человек интересной судьбы. Только непросветленный».
В ее рассказе «Мраморное мясо» мужское дело палачей на скотобойне конкретно разведено с женской долей навеки сплотиться с жертвой. После убийства «нового русского» его душа у Максима Павлова,
«ошалев от свободы, летала по поднебесью и резвилась, как дитя».
— «Когда я в последний раз его покидала, там оставалась одна вонь…»
Это не только отчет о несостоявшихся героях. Традиционный дневниковый персонаж Бонифация в «Заметах сердца» резко занижает свои потребности. «Я все время думаю о женщинах», — с постыдной банальностью исповедуется он, перебиваясь признанием, что «еще я очень люблю какать». Ну, что ж, какой дальше! Дневник превращается в самоутвердительное саморазоблачение. Хорошо, что герой — трус. Он ненавидит деньги, потому что у него их нет. На скорую руку написанный кодекс поведения частного человека, с приветом от Розанова, говорит об испарении содержания.
«Непросветленность» толкуется каждым автором по-своему, в зависимости от модных философских увлечений, но ясно, что это даже не осуждение — род отчаяния. Нет мужиков. Они ничего не хотят понимать. Если и понимают, в них нет скорости мысли, они вяловаты, как у Муляровой, невменяемы, как у Шараповой, заторможенны, как у Китайцевой, или из другого теста, как у Гостевой. Короче, не герои. Жалкие существа, за которых еще надо, что очень обидно, особенно Фоминой и Гостевой, духовным невестам припозднившегося в России Карлоса Кастанеды, драться для достижения личного счастья. Обе хотят выправить свои судьбы не столько «практиками», сколько подвигом самоусовершенствования. Но есть внутренние сложности. «Мы» кончилось — «я» раздулось до бесконечности, готовое обессмертить себя в любой плоскости между Непалом, Москвой, Лондоном и Лос-Анджелесом. Надо только вообразить себя многозначительной, как это делает героиня Гостевой, и шарашить текст с той частотой испражнения, на которую хватает сердцебиения. Однако в рассказе «Хранитель» эта напыщенная многозначительность удачно разбивается о конкретную ситуацию: состязание вроде бы родственных энергий героини и емкого литератора-буддиста («хранителя» как своих небесных чердаков, так и своих многочисленных любовниц) позволяют автору неожиданно увидеть механизм любви третьего (единственно ценностного, хотя и менее продвинутого) персонажа — несчастной подруги, которая «болтается между нами». В общем две суки и одна дура. Хороший литературный расклад.
Мужчины поддакивают: бабы, вы лучше. У Аркадия Пастернака Сонька-помойка — «вся, как выстрел в мир», на фоне провинциальной грязи и серости она — «удар по глазам», ни один мужской персонаж близко не похож по характеру. Больше того, мужчины перестают быть характерами, это привилегия женщин. В героинях достоинство — неоднозначность, они многолики. У Ефима Свекличного дочь генерала в одном абзаце оказывается всем чем угодно, почти космическим мифом, диалектическим единством противоположностей, а, главное, живым человеком.
Конечно, находятся исключения, какой-нибудь эксцентричный папа у Александры Даниловой, да и то тоже жалкий в своих выходках, черных сатиновых трусах и уже рано умерший или — совсем еще мальчик со спичками у Екатерины Садур. Но здесь уже генная инженерия зла. Данилову и Садур приятно иметь в антологии из соображений читательского комфорта; в обеих устойчивый антиагрессивный синдром. За несложной фактурой повествования мелькает теплая авторская «тварь», что мила терпеливому читателю.
В русской литературе прервалась героическая пора мужчин. Базаровы отдыхают. Последний выхлоп — дискурс нарядного бандита. Его прикид — попугайские перья сленга, и соответственно насмешливо он назван Попугайцевым (бабы стали насмешницами, нашли управу на русский фаллос):
«— Ну че на тракторе? Ты, блин, прям, как в букваре! — откликнулся Попугайцев. — Я б космонавтом вот был бы. Запилят тебя прям по самое не балуйся, ты там кувыркаешься в невесомости, а в окошках — звезды и Земля чисто как фишка! И по телеку — Попугайцев в жопу в космосе» («Транзит Глории Мунди»).
«И мамаша его тоже прекрасна с провисшим своим животом. С пиздою порванной. С затычкой кровавой. С рассказами о вздохах младенца. С тонким голоском и сочащимся соском». —
Это уже из Марины Сазоновой. Она, пожалуй, круче Китайцевой по чувству современного молодежного ритма, словесной хватке, напору, легкой зигзагообразности мыслей и образа (основной примете нарождающейся прозы), и ритмизованность ее текста не столько от Андрея Белого, сколько от ощущения синкоп идущего века. Действительно — время рожать.
В рассказе Игоря Мартынова «Лонгомай…» герой тиражирует решительные «молодежные» действия, понятые как «попытки бегства», лишь для того, чтобы расписаться в несостоятельности. Единственный мужской поступок во всей антологии — целенамеренное убийство «нового русского» как класса у Максима Павлова, социальный фантазм-заказ целой постсоветской эпохи — заканчивается сентиментальной кислятиной влюбленности в душу убитого. Мужчины становятся интересны только тогда, когда в них есть безумие ущербности. У Пепперштейна ущербный самоубийца чудом (вовсе не чудом) не умер — перед ним прошелестел прекрасно-отвратительный образ Гитлера, все стало déjà vu, самоубийцу ловко взял за яйца инстинкт самосохранения. У Ширянова наркоман проецирует мысли на экран телевизора, но электронный колосс ущербен. Вика Самореззз готова его любить даже в состоянии «рабыни», а он так трусливо боится кичевых отношений «двух любящих сердец», так дорожит своей «неприкаянностью», что в ответ лишь мочится ей в рот.
Могутинский герой из «Груди победителя» вроде бы супермен, но потому и парадоксален рассказ, что супермен жалок и агрессивен в своей жалкости.
«Всегда приятно, когда умирают известные люди! Я в таких случаях всегда думаю: ну вот, одним говнюком-конкурентом стало меньше!»
В сущности, та же мысль зарыта в тексте Гостевой, а здесь — поскольку «не знаю, как другие, а я пишу спермой» — откровенно. Могутин, не хуже Гостевой, демонстрирует основной инстинкт своего персонажа: он
«ненавидел и презирал их всех и хотел только одного: чтобы эти задроченные ублюдки и ничтожества, эти благополучные свиньи, не познавшие остроту и страдание жизни, короновали меня, сделали меня своим божеством…».
Текст отражает водоворот гомосексуальной темы в России на переломе 80—90-х годов, который быстро кончился по случаю нежданной российской толерантности (точнее, вульгарного русского похуизма). Вместо «голубой» партизанщины вышел урок стиля: линия «злого мальчика» в русской литературе, которой придерживался Лимонов. Могутин разрабатывает любезную Западу тему поэта-troublemaker'a, новейшего Рембо, в чьих глазах ничего, кроме «жестокости и отчаяния». Необходимый довесок в общепоколенческой стратегии. Из мальчика-пая «со сраной скрипкой», в очках, он превращается, чтобы состояться, в картинного монстра: