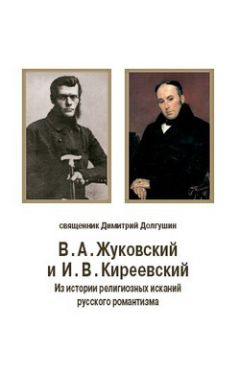Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
Продолжая разбор, Шевырев заостряет внимание именно на спиритуально-эротической ноте. Христос соотнесен у него не столько с Премудростью, сколько с другим аспектом Его личности: «Эта песнь пророчественно предсказывает о той Любви высокой, которой исполнено евангельское слово, и потому достойно прообразует Любовь Спасителя к Церкви»[292].
Эротические аспекты средневековой поэзии эксплуатирует в 1832 г. «Радуга». В напечатанной тут переводной рецензии на немецкую книгу Карла Витте о Данте прослеживается эволюционирующая символика Беатриче:
Красотою Беатрисы изображает поэт единственно славу Творца и лепоту создания его, природы <…> Но лишается счастливый супруг предмета своей священно-радостной любви – и вся природа облекается пред взорами его покровом печальным, вся природа представляется ему отравленною в зародыше своем <…> Единственная деятельность, оставшаяся сокрушенному духу, есть умствование (Speculation) во всех его направлениях. Оно овладевает поэтом: поэт живописует нам его подругою-утешительницею, прелестною девою, из взоров коей сияет ему красота Беатрисы; и мало-помалу Философия превращается для него в совершенный образ его возлюбленной <…> Он изображает Философию любовницею, ускользающею из объятий его и не утоляющей беспрерывной, пламенной любви его.
Но аллегория эта крайне опасна, ибо она подразумевает свободные духовные поиски, которые «из лона благочестивого верования христианского» уводят поэта «в область необузданного умствования», чреватого ересью. По счастью, Данте «понимает бесплодность и грешность свободного умствования <…> Та же самая Беатриса, которой образ прежде отражался в Философии, становится для него изображением Религии»[293].
На деле, однако, для метафорики, столь склонной к гипостазированию эротических абстракций, граница между олицетворенной «философией», т. е. любовью к мудрости, и любовью ко Христу как персонификацией этой последней во все времена оставалась чрезвычайно размытой.
* * *Аллегорическая связь, сохранявшаяся, с одной стороны, между влюбленной душой и Церковью как «Невестой Христовой», а с другой – между этой Церковью и Пресвятой Девой как ближайшим к ней женским образом, открывала простор для причудливых теософских фантазий. Та же «Радуга» вскоре после приведенной публикации, в последнем своем выпуске, сама пускается в «необузданные умствования» богословско-эротического свойства, изобретая какую-то невразумительную версию Святого Семейства. Исподволь устранив из Троицы Бога-Отца, журнал заменил Его Христом-Логосом, а состав Троицы (которую редактор в патриотическом рвении спроецировал вдобавок на российское общественно-политическое устройство) восполнил за счет Богоматери. Троицей объявлена тут почему-то сама Церковь, она же суммарное «тело» Божие (а не только Христово, как было у ап. Павла); но одновременно она остается и Невестой Христовой, т. е. отдельным, обособленным от Троицы, а значит, от самой себя персонажем. Анатомия ее мистического «тела» способна повергнуть читателей в решительное недоумение. Рассуждая о «верховной, Божественной красоте», запечатленной в Церкви, «Радуга» возглашает: «Сам Христос есть глава сего священного союза, есть превечный ум, сияющий в сем святом теле, есть жених сей чистой невесты; сама Пресвятая Дева, матерь Божия, Невеста неневестная, есть сердце, есть любовь небесная в сей [чьей – Церкви, т. е. тоже Невесты?] святой груди; сам Дух Святой есть душа, пронизающая жизнию все члены его». Правда, в заключительных строках той же прощальной статьи – и всего издания – остзейский журнал, напоследок стяжавший дар пророчества, объявил уже самое Россию воплощением христианской любви: «Но время настает, кажется: раскрывается грудь России. // Европа! взгляни на нее, на эту грудь, Божественным огнем горящую! Проникни в эту грудь гордым ведением твоим! Ты добровольно сама себя отвергнешься, добровольно захочешь всем пестроблестящим существом своим растаять в этом лоне чистой христианской любви!»[294]
* * *Помимо мужского образа Ума или Премудрости, догматически отождествлявшейся с Женихом-Христом, к комплекту сакрально-эротических мифологем подключалась, в качестве универсального культурного символа, София, или та же самая Премудрость, только наделенная женским обликом, очерченным во множестве ветхозаветных текстов – как канонических, так и не признанных таковыми[295].
6. Женщина как София-художница и Душа мира
Задолго до всякого романтизма София сделалась культовой героиней русских «каменщиков», которые, как уже говорилось, позаимствовали ее – не без содействия отечественной церковной традиции – у Якоба Беме[296] и его последователей. В любом случае масонско-теософская аллегорика этого образа страдала хронической сбивчивостью. София фигурировала одновременно в нескольких ролях, совмещение которых отдавало если не инцестом, то логической неразберихой: она подвизалась и в амплуа «девственной» матери, вскармливающей свое духовное чадо, и в качестве грядущей невесты адепта, а также его наставницы либо вожатой[297], указующей ему путь к этой же персонифицированной мудрости, т. е., по сути, к себе самой (постоянный мотив масонских и смежных травелогов). Так обстоит дело, например, у И. Лопухина в его весьма авторитетном для масонов наставлении – «Духовный рыцарь»[298]. При этом «девственный брак» с Софией понимался и как путь, ведущий адепта к самому Богу.
Громоздкую и путаную софиологию русских розенкрейцеров отчасти унаследуют романтики, в первую очередь «поэты мысли», присвоившие себе прерогативы масонских «учеников мудрости». Вслед за ними Шевырев в стихотворении «Мудрость» (1828) тоже придает материнские функции Софии, которая возносит в эмпиреи экстатический дух визионера, вскормленного ею:
О мудрость, матерь чад небесных!
Тобой измлада вскормлен я:
Ты мне из уст твоих чудесных
Давала пищу бытия.
На персях девственных главою
Я под хранительной рукою
Невинен, чист и тих лежал:
Твоими тешимый речами,
Младенца чистыми устами
Твое млеко я принимал
И в мед словес в речах обильных
Его чудесно претворял;
<…>
Под солнцем истины незнойным
Полетом ровным и спокойным
По стройной пропасти светил
Мой дух восторженный парил
И возносился он далеко,
И насыщал и слух и око.
Шумели воды, вихрь и лес,
Перуны падали с небес,
И волновались океаны.
И разверзалися волканы.
Казнила мир палач – война,
Упрямо резались народы
За призрак счастья и свободы…
И как потопная волна
Лилась река их теплой крови.
Но в каждом стоне бытия
Духовным слухом слышал я
Великолепный гимн любови
Во славу Бога и отца,
<…>
И выше, выше я парил
За грани вечные светил,
В чертог духов и вечной славы,
И слышал их и видел трон,
Где восседал незримый Он…[299]
В «Леоне» Никитенко материнская роль приписана душе, оплодотворенной «вечной любовью» и вынашивающей в себе творческое начало: «Истина зачинается во глубине души так же, как новый житель земли в утробе матери. Зародыш спит, но в нем сосредоточен весь будущий муж, может быть Сократ, Катон; может быть Минин, Пожарский, Ляпунов <…> Так вечная любовь, предназначившая человека для жизни высшей, оплодотворила в нем зерно разума, который, зрея мало-помалу, расцветает в тысячах разнообразнейших идей и познаний»[300].
Автор остается все же, как видим, в пределах красочных уподоблений, хотя и тяготеющих к персонификации. Шевырев подошел к ней гораздо ближе, невольно разбудив тем самым сложный и противоречивый потенциал софийной аллегорики. Тот факт, что у него, как и у Лопухина, материнское «млеко» Премудрости соединено с «девственностью», указывает на богородичные ассоциации, примешавшиеся к ее довольно безличному образу. Впрочем, неразрывная связь Софии с Пресвятой Девой, как и вообще с материнским началом, настолько известна, что на ней не стоит останавливаться. Интереснее, возможно, другая, имплицитная и более рискованная подоплека этого сближения, нечаянно просквозившая у Шевырева: если Мудрость – «мать», а Бог – это «отец» для Своих созданий, то обоих персонажей должны соединять брачные отношения. Конечно, перед нами всего лишь метафорический реликт языческой матримониальной темы, актуализированной в некоторых ересях (София или феминизированный Дух Святой как материнская сторона, женская ипостась либо просто супруга божества[301]), но реликт, как мы далее убедимся, знаменательный для эротической и, в частности, инцестуальной проблематики русского романтизма.
Расплывчатость софийного образа отражала широту его генезиса[302], в котором библейский образный ряд совмещался с фольклорным (вплоть до персонажей наподобие Василисы Премудрой и царь-девицы), философским (София как мера и гармония у Платона) и гностико-герметическим. С XVIII в. в русской культуре феминизированная Премудрость проходила разные стадии кристаллизации: от куртуазно-метафорических условностей и более-менее зыбких аллегорий до отчетливо-личностной Девы Софии – Jungfrau der Weisheit Gottes, – унаследованной масонами от Якоба Беме. Но та же София могла отождествляться у них со сверхсинкретической Изидой, выступать под псевдонимами Истины или Гармонии, соотноситься с Афиной – сближение, восходящее к античной традиции и подкреплявшееся типологической параллелью между библейским девственным рождением Премудрости и рождением девственной богини мудрости из головы Зевса[303]. В Притч 8: 23–24 Премудрость свидетельствует о себе: «Я родилась», а в Сир 24: 3 – «Я вышла из уст Всевышнего». Ср. у Лопухина: «Даждь нам Тобою рождаемую Премудрость, посли ю с Небес святых»[304]. Так или иначе, от холодного рассудка масонскую личностную Премудрость во всех ее теософских воплощениях кардинально отличало живое и попечительно-иррациональное тепло, роднящее ее с Душой мира стоиков, неоплатоников и шеллингианцев.