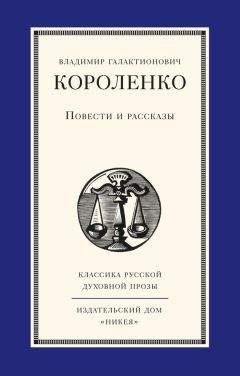Юлий Айхенвальд - Короленко
Оттого, что Короленко так рационалистичен в своих взглядах на человеческое горе, оттого, что он почти всюду находит для него определенные причины, он убежден, что есть для него и определенное исцеление, и вожделенный конец. Русская общественность, гражданские злоключения ограничили его, лишили его свободы духа, заслонили перед ним широту кругозора и помешали ему. Слишком ясно и конкретно то реальное, чем он недоволен; слишком понятно, что это за огоньки, которые «все-таки, все-таки» сверкают перед ним впереди и манят его к себе, – выступает ли он под русским именем, зовут ли его Хуан-Мария-Хозе-Мигуэль-Диац. И если бы до этих приветливых огоньков доплыла лодка нашей жизни, Короленко был бы удовлетворен. Но он ничего не говорит о тех бесконечно более далеких и недостижимых, мистических огнях, по которым от века тоскует неутолимая человеческая душа и которых она не может даже назвать по имени. У Короленко огоньки, а не огни. Короленко теоретически удовлетворим. И потому он не вечен, и потому он не велик. В области духа тоже есть свои Марии, которым – единое на потребу, и свои Марфы, которые пекутся о многом.
Каждый писатель – особая страна, и по стране великого писателя вы идете, идете, и не видать ей конца-краю, и вы даже не представляете себе, что здесь могут быть границы. В маленьких же странах, где царит художественная ограниченность или элементарность, вам сразу бросаются в глаза предельные линии тесного горизонта. И писателям такой страны мир и человек рисуются в общих и немногих чертах, и все для них гораздо проще, чем это в действительности и чем это видят их более зоркие собратья. Простая и благодушная концепция «Макара» изображает дело так, что бедный якут в своей оправдательной речи открывал старому Тойону до тех пор не известные Ему стороны мировой правды; и Тойон слушал его с большим вниманием, и на глазах у него показывались слезы – те самые услужливые слезы, которые у Короленко часто увлажняют и человеческие глаза. И, узнав о том, как страдал на земле бедный Макар, старый Тойон растрогался и помиловал его, и деревянная чашка с грехами якута поднялась высоко-высоко. Но у Макара не зародилась более сложная и более мучительная, более загадочная мысль: старый Тойон знает все то, о чем Ему говорил Макар; старый Тойон правду видит, да не скоро скажет; старый Тойон знает, что Макара гоняли всю жизнь, – и все-таки Макара гоняли, гоняли заседатели и исправники, гоняли нужда и голод, мороз и жары, гоняли дожди и засухи, гоняла промерзшая земля и злая тайга. Это гораздо серьезнее. Глубже и величественнее тайна и трагедия мира от того, что старый Тойон все знает, и если бы даже Он прежде не знал, то в молитвах, идущих от земли, давно уже донеслись бы до Него несмолкающие жалобы бедного Макара – человечества. Здесь нечто большее, чем простое недоразумение, как это думает якут и как это, может быть, думает и сам Короленко. И характерно, что так легко и быстро удовлетворен измученный человек; правда, это – в святочном рассказе, где неожиданная ласка счастья распутывает узел жизненных треволнений и бед. Но немногого требуют от мира авторы святочных рассказов, и они упрощают его.
В художественной стране Короленко границы еще явственнее потому, что в ней слишком видна и та техника, с помощью которой осуществляется замысел. Печать словесной отделки открыто лежит на его рассказах, и в них много тщательной литературы. Но она все-таки не уберегла его от изъянов, которые показывают, что он недостаточно ясно видел тех, кого изображал. Вот один из членов «Дурного общества», безумный профессор, не переносит упоминания о режущих и колющих орудиях, и мальчишки нарочно терзают его криком: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» – а через немногие страницы он сидит и шьет, и Тыбурций говорит ему: «Брось иголку». Или невежественному Макару будто бы снится такая фраза: «У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравновешивают чашки»; там же о лицах праведников говорится, что они «обмыты духами».
И все-таки недостатки Короленко очень похожи на достоинства; и все-таки, несмотря на все его эстетические погрешности, фигура его является одной из самых привлекательных в новейшей русской словесности. Чарует на многих его страницах трогательный и мягкий романтизм, нежная меланхолия, в тихом свете которой виднеются заблудившиеся в мире сиротливые души и милые образы детей: маленькая степенная женщина Эвелина, сначала так испугавшаяся и потом так пожалевшая слепого мальчика; или бледная Маруся, изнемогшая от серых камней подземелья и в предсмертные минуты ревниво прижимавшая к себе чужую куклу; или другая бедная девочка, затерянная между скал и вод Сибири и смеявшаяся таким слабым смехом, «точно кто перекладывал кусочки стекла».
«Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город… в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькой могилкой свои обеты». Так говорит о себе и своей сестре маленький герой «Дурного общества». И это понятно и печально всем, потому что все когда-нибудь, в буквальном или, уж наверное, в нравственном смысле, оставляют тихий родной город, близкие могилы и уходя в даль, ни трудно потом найти другую родину, и мир чужой, и зовут к себе покинуше жизни и могилы. Короленко создал образы таких людей, которые не могут откликнуться на этот зов и, тоскуя, бродят в огромном мире, заброшенные вдаль от родного угла. Какая печаль, когда далеко близкое сердцу! И Короленко знает эту трагедию пространства – своеобразную вариацию на ницшеанский «пафос расстояния», он знает те роковые часы, когда «чужая сторона враждебно веет своим мраком и холодом, когда пред встревоженным воображением грозно встают неизмеримою, неодолимою далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным». Он рассказывает, как вихрь судьбы беспощадно отметает людей друг от друга, как ищут они друг друга в большой Америке и по всему большому свету и один не может потом найти другого. К Тимохе, невольному гостю негостеприимного Севера, много лет назад приходил как-то человек из родного края, но не застал его и только велел передать ему, что дочку его замуж выдали. «Правда ли, нет ли, – замечает по этому поводу Тимоха, – я, брат, и не знаю». Так затериваются в мире человеческие души.
Но их находит, на них любовно указует зоркий сердцем писатель, который сам испытал и видел много скорби и зла, но который не сомневался в добре и любил человеческое лицо. И, кажется, эту веру и эту любовь непоколебленными донес он до самой могилы своей, хотя он и умер в такой час истории, когда его родная страна представляла собою жестокое опровержение и любви, и добра, и человечности – всего, чему так достойно служил Короленко делом и словом своей жизни.