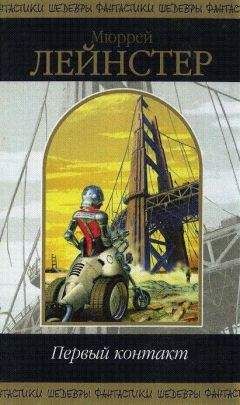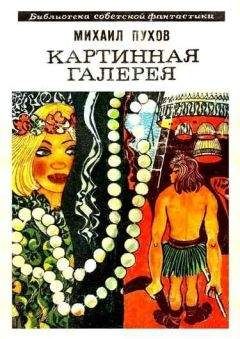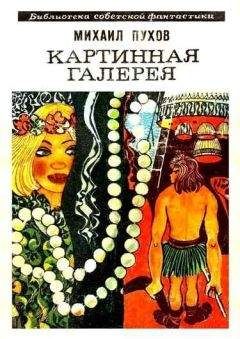Оноре Бальзак - Сердечные муки английской кошечки
Только тогда я взглянула, не слишком пристально, на очаровательного французского кота: он был всклокочен, мал ростом, развязен и нисколько не походил на английского кота. По его непринужденному виду, по особой манере потряхивать ухом видно было, что это беззаботный плут. Признаюсь, я утомилась от торжественности английских котов, от их чисто внешней опрятности. Их пристрастие к благопристойности (respectability) казалось мне особенно смешным. Крайняя естественность этого непричесанного кота меня поразила, — такой резкий контраст она составляла всему виденному мною в Лондоне. А кроме того, жизнь моя текла так размеренно, я так хорошо знала наперед все события своей жизни, что не могла остаться равнодушной ко всем неожиданностям, которые сулила физиономия французского кота. Тогда все показалось мне пресным. Я поняла, что могу жить на крышах с этим веселым существом, явившимся из такой страны, которая после побед величайшего английского полководца утешалась бессмысленной песенкой: «Мальбрук в поход собрался[5], миронтон, тон, тон, миронтен!»
Тем не менее я разбудила милорда и дала ему понять, что уже очень поздно и нам пора домой. Я сделала вид, будто не слышала объяснения в любви и осталась бесчувственной, чем привела в оцепенение Бриске. Он тем более изумился, что считал себя красавцем. Впоследствии я узнала, что он не давал спуску ни одной кошке. Исподтишка я взглянула на него: он двигался мелкими прыжками, перебегал улицу и беспрестанно оборачивался, как истинно французский кот, объятый отчаянием; настоящий английский кот вложил бы больше пристойности в свои чувства и не стал бы выказывать их.
Через несколько дней я вместе с милордом очутилась в великолепном доме старика пэра; я поехала прогуляться в Гайд-парк. Мы питались лишь косточками цыпленка, рыбьим спинным хребтом, сливками, молоком, шоколадом. Как ни был горячителен подобный режим, так называемый муж мой Пуфф хранил степенность. Его благопристойность (respectability) распространялась и на меня. Обычно уже с семи часов вечера он спал за карточным столом на коленях его светлости. Итак, моя душа не находила себе никакого удовлетворения, и я томилась. Дурное настроение роковым образом совпало с недомоганием от чистого селедочного сока (портвейн английских кошек), употребляемого Пуффом и приведшего меня в полусознательное состояние. Хозяйка пригласила врача, который окончил Эдинбургский университет, а перед тем долго изучал медицину в Париже. Распознав мою болезнь, он обещал, что завтра же я буду здорова. Он ушел, а затем, вернувшись, вынул из кармана какой-то инструмент французского изделия. Ужас охватил меня, когда я увидела длинную и тонкую трубку, сделанную из белого металла. При виде этого аппарата, который врач самодовольно вертел в руках, их светлости залились румянцем, они разгневались и много чего наговорили насчет чувства собственного достоинства у английского народа; выходило так, как будто не разногласия в отношении к библии отделяют старую Англию от католиков, а эта позорная машинка. Герцог сказал, что в Париже французы не краснеют, когда на сцене национального театра в комедии Мольера выставляют напоказ эту машинку, название которой не осмелится произнести в Лондоне даже ночной сторож (watchman).
— Дайте ей каломель!
— Ваша светлость, вы убьете ее каломелем! — воскликнул медик. — А что касается этого невинного аппарата[6], то французы возвели в чин маршала одного из храбрейших своих генералов за то, что он пустил его в дело на Вандомской площади.
— Французы могут поливать своих внутренних врагов, как им угодно, — продолжал милорд. — Я не знаю, и вы не знаете, какие последствия произойдут от применения этого унизительного механизма, но я отлично знаю, что настоящий английский врач должен лечить больных только старинными английскими средствами.
Медик, уже начавший входить в славу, совсем потерял практику в высшем свете. Призвали другого врача, который задал мне неприличные вопросы насчет Пуффа и сообщил мне, что истинный девиз Англии таков: «Бог и мое... брачное право».
Однажды ночью я услыхала на улице крик французского кота. Никто не мог нас заметить. Я вскарабкалась по печной трубе и достигла крыши. Я крикнула ему:
— На крышу!
От такого ответа у него точно крылья выросли. Во мгновение ока он очутился возле меня. Но подумайте: французский кот, воспользовавшись вырвавшимся у меня восклицанием, имел непристойную дерзость сказать мне:
— Приди в мои лапки!
Он осмелился, без дальних слов, называть аристократическую кошку на «ты». Я окинула его холодным взглядом и наставления ради сказала, что принадлежу к Обществу воздержания.
— Милый мой, — сказала ему я, — по вашему выговору и по распущенности ваших суждений я вижу, что вы, как все католические коты, насмешник и готовы выкинуть тысячу всяких штучек, полагая, что потом покаетесь, — и дело с концом; но у нас в Англии больше нравственности: мы во все вкладываем благопристойность (respectability), даже в наслаждения.
Молодой котик, пораженный величием английского лицемерия (cant), слушал меня настолько внимательно, что подал мне надежду на возможность обращения его в протестантскую веру. В изящнейших выражениях он заверил в своей готовности сделать все, что мне угодно, лишь бы я разрешила ему обожать меня. Я смотрела на него, не в силах ответить, так как его глаза, поистине прекрасные (very beautiful), великолепные (splendid), сверкали, как звезды, их пламя освещало ночную тьму. Мое молчание внушило ему смелость, и он воскликнул:
— Милая кошечка!
— Это что еще за непристойность! — воскликнула я, зная, до чего легкомысленно обращение французских котов.
Бриске сообщил мне, что на континенте все, даже сам король, обращаются к дочери: «Кошечка моя!» — в знак любви; а женщины, самые хорошенькие и самые аристократические женщины, говорят мужу: «Котик мой!» — даже когда и не любят его. Если мне угодно сделать ему приятное, я должна назвать его: «Человечек мой!» Тут он с неописуемой грацией поднял передние лапки. Я поспешила исчезнуть, потому что не ручалась за себя. Бриске запел английский национальный гимн, так он был счастлив, и на следующий день его милый голос еще гудел в моих ушах.
— А! И ты влюблена, милая Бьюти? — сказала мне хозяйка, увидав, что я развалилась на ковре лапками кверху, предаваясь неге и утопая в поэтических воспоминаниях.
Я изумилась тому, что женщина может оказаться такой догадливой, и, выгнув спину, принялась тереться о ее ноги и мурлыкать любовную мелодию на самых низких тонах своего контральто.
В то время как хозяйка посадила меня к себе на колени, гладила меня и почесывала мне голову, а я нежно любовалась ею и ее глазами, полными слез, на Бонд-стрит происходила сцена, имевшая для меня ужасные последствия.
Пук, один из племянников Пуффа, рассчитывавший получить наследство после него, а пока что живший в казарме лейб-гвардии (life guards), встретил моего дорогого (my dear) Бриске. Капитан Пук, умея действовать исподтишка, поздравил атташе при французском посольстве с тем, что он добился успеха у меня, давшей отпор очаровательнейшим котам Англии. Бриске, тщеславный француз, ответил, что он очень счастлив удостоиться моего внимания, но что он терпеть не может кошек, которые говорят о воздержании, о библии и прочем.
— Вот как! — произнес Пук. — Значит, она с вами беседовала?
Таким образом Бриске, милый мой французик, стал жертвою английской дипломатии; но и то правда, он совершил ошибку, непростительную, способную разгневать любую из воспитанных кошек Англии. Плутишка был, по правде говоря, котом не очень основательным. Пришло же ему в голову поклониться мне в Гайд-парке и даже заговорить со мной, как будто мы были знакомы. Я осталась холодна и неприступна. Кучер, заметив француза, так хлестнул его бичом, что едва не убил на месте. Бриске перенес этот удар с неустрашимостью, изменившей мое отношение к нему: я полюбила его за готовность переносить муки, за то, что он видит только меня и испытывает счастье только быть со мною, побеждая таким образом склонность всякого кота удирать при малейшей опасности. Он и догадаться не мог, что я буквально помертвела, хотя внешне сохраняла невозмутимость. В этот момент я решила бежать с ним. Вечером на крыше я, потеряв голову, кинулась в его лапки.
— Дорогой мой (my dear), — сказала я, — имеете ли вы капитал, необходимый для покрытия проторей и убытков старика Пуффа?
— Весь мой капитал, — ответил француз, посмеиваясь, — заключается в волосиках моих усов, в четырех моих лапках и в хвосте.
И он принялся подметать крышу горделивым движением хвоста.
— Никакого капитала! — воскликнула я в ответ. — Так, значит, вы авантюрист, дорогой мой (my dear)!
— Я люблю авантюры, — нежно сказал он. — Во Франции, при тех обстоятельствах, на которые ты намекаешь, коты дерутся! Они прибегают к помощи когтей, а не денег.