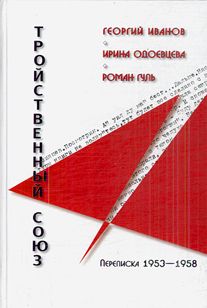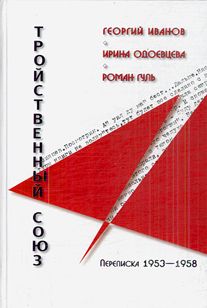Роман Гуль - Георгий Иванов
Новый путь антиэстетизма меняет все стихотворное тело поэзии Георгия Иванова, всю ее сущность и плоть, вплоть до поэтического словаря. С сомнительных заезженных высот эта поэзия спускается в неведомость новых низин. В общей инструментовке стиха убивается мелодизм романса и орнаментальность. Музыка огрубляется, становясь примитивом. «Прекрасная ясность» и предметность «воздушных мелочей» уступают место высокой неясности беспредметного бормотанъя. Вместо былой петербургской утонченности — грубый уличный мотив. Он представляется мне какой-то простенькой песенкой, что напевает себе под нос пьяный Верлен, возвращаясь по бульвару Сен-Мишель в свое отельное логово.
На смену былым изяществам:
Мы скучали зимой, влюблялись весною,
Играли в теннис мы жарким летом,
Теперь летим под медной луною
И осень правит кабриолетом! —
врывается почти вульгарная (но с какой-то несколько некрасовской интонацией), крайне современная нота:
Если бы жить—Только бы жить…
Хоть на литейном заводе служить.
Хоть углекопом с тяжелой киркой,
Хоть бурлаком над Великой рекой.
Но
Этим плечам ничего не поднять,
Нечего, значит, на Бога пенять.
Трубочка есть. Водочка есть.
Всем в кабаке одинакова честь .
Поэтический словарь наполняется нестерпимыми для былого петербургского уха вульгаризмами («смыться», «ухлопать», «умора», «здорово», «хлам», «штучка», «шурум-бурум» и пр.). И, как контрастные, входят слова иностранного происхождения, тоже редкие гости былого поэтического словаря («хлороформировать», «трансцендентальный», «вертебральный», «патентованный», «лояльный» и др.). Также пущены в оборот каламбуры, остроты и вульгарно-разговорные выражения («поставить к стенке» и пр.). Иногда из вульгаризмов и иностранных слов дается крепкая смесь («в трансцендентальном плане — немазаная катится телега»). Но все делается — несмотря на кажущуюся грубость — мастерски.
Истонченность поэтического рисунка, в прошлом часто напоминавшая Бердслея, как в «Вереске» (но иногда, правда, бывал и Самокиш-Судковский, как в «Памятнике славы») — обменена на многие очаровательные инфантильные акварели.
Но главное, это — слово, как таковое, его звучание, кладется краеугольным камнем новой поэзии:
«Желтофиоль» — похоже на виолу,
На меланхолию, на канифоль.
Иллюзия относится к Эолу,
Как к белизне — безмолвие и боль.
И подчиняясь рифмы произволу,
Мне все равно — пароль или король.
Эти (и подобные им) прекрасные стихотворения Георгия Иванова ввергают многих в состояние одеревенения с обвинениями поэта в зауми. Думаю, что такая реакция может быть вполне естественной и закономерной. Но ни поэта, ни его искусства она не касается. Новую поэзию Георгия Иванова ведет музыка слова, как он ее слышит, а слышит он ее, на мой взгляд, изумительно. «Полутона рябины и малины — В Шотландии рассыпанные втуне, — В меланхоличном имени Алины — В голубоватом золоте латуни». И в органической сращенности с этой музыкой рождается беспредметный лиризм?
На границе снега и таянья,
Неподвижности и движенья,
Легкомыслия и отчаянья
Сердцебиение, головокружение…
Голубая ночь одиночества!
На осколки жизнь разбивается,
Исчезают имя и отчество
И фамилия расплывается…
Точно звезды встают пророчества,
Обрываются! Не сбываются!
Как далеко это от прежней эмоциональной тональности: «Все образует в жизни круг — Слиянье уст, пожатье рук. — Танцуем легкий танец мы. — При свете ламп не видно тьмы». В современную поэзию Иванова включен новый внутренний двигатель. И то эмоциональное, что когда-то отражалось по-блоковски, по-анненски, по-кузмински, ушло с огрублением внутренней темы. Поэт все больше обуднивает ее, сознательно отказывается от всяких ее украшений, предпочитая прекрасное нищенство музыки и образа.
С бесчеловечною судьбой
Какой же спор? Какой же бой?
Все это наваждение.
…Но этот вечер голубой
Еще мое владение.
Конечно, тематически это вовсе не голубой вечер Алеши Карамазова. Это вовсе не духовное умиление перед всем сущим и восторженное прозрение в сердцевину бытия, когда — как старинному немецкому поэту Ангелусу Силезиусу — даже лягушка кажется серафимом. «Der Frosch ist ja so schon als Engel Seraphin». [3] Поэзия Иванова всегда была бездуховна, безрелигиозна. Если вслед за Вл. Соловьевым поэты-символисты видели в искусстве «общение с высшим миром» и утверждали в искусстве скрытую религиозную сущность, то Иванов в этом плане вполне верен гумилевскому завету акмеизма: «не вносить никаких поправок в бытие». У него нет разговора с Богом и нет бодлеровского ощущения дьявола: «sans cesse a mes cotes s'agite Ie Demon»[4]. Его поэзия вся тут, на земле, вся terre « terre, ей чужда надмирность. Она вся в «черной дыре» философского безразличия. «От безразличья погибая, гляжу на вечер голубой». — «Не обижаясь, не грустя — Так труп в песке лежит не тлея». И в прозе тем же розановским шепотком Георгий Иванов говорит: «Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользающее мгновение».
Все туман, иду в тумане я
Скуки и непонимания.
И с ученым или с неучем
Толковать мне в общем не о чем.
.....................................
Я наблюдаю с безучастием,
Как растворяются сомнения,
Как боль сливается со счастием
В гармонии одеревенения.
Но именно тут открываются у Георгия Иванова новые звуки новой музыки. И именно в этот момент он наконец дает русской поэзии свою музыку. И если слово как звук, в ущерб его цвету, его окрашенности преимущественно владеет новой поэзией Георгия Иванова, то все же иногда — пусть редко — слепящая живописность прорезает эту поэзию, напоминая лучшие полотна французских «fauves» [5]:
Пожалуй, нужно даже то,
Что я вдыхаю воздух,
Что старое мое пальто
Закатом слева залито,
А справа тонет в звездах.
Только четыре совершенно конкретных темы еще остаются жить в беспредметной поэзии Иванова. Это — Россия, эмиграция, Петербург и убийство.
Стихи Георгия Иванова о России должны вызывать негодование многих. «Хорошо, что нет царя. — Хорошо, что нет России. — Хорошо, что Бога нет». — «И ничему не возродиться — Ни под серпом, ни под орлом». — «Невероятно до смешного. — Был целый мир и нет его». — «Я вашей России не помню — И помнить ее не хочу». — «Россия счастие. Россия свет. — А может быть, России вовсе нет». То, что наука о государстве разумеет под понятиями «народ, власть, территория», вероятно, действительно мало волнует Георгия Иванова. Этим он восстанавливает против себя патриотов. Но всякий политический подход к поэзии всегда все-таки ставит обвинителей в несколько неудобное положение. И вызывает глубокое недоумение в поэте. Когда-то Брюсов написал довольно страшные строки: «Родину я ненавижу». Еще острее эту тему развивал Печорин. Да и Чаадаев где-то соприкасался с этими чувствованиями. Но то, за что ответственны публицисты, мыслители, люди положительного знания, неприложимо к поэту. Было бы странно осудить поэта за темы его поэзии, что, конечно, не относится к стихотворцам-ремесленникам. Поэта можно судить только за качество выполнения. Так, на мой взгляд, всегда были пустопорожни обвинения Александра Блока за его поэму «Двенадцать», может быть, единственную замечательную, стоящую, как грязный, «бессмысленный и беспощадный» монумент революции. Плоские комплименты первых большевиков и яростные нападки антибольшевиков говорили все-таки только о непонимании. И Блок был тысячу раз прав, когда отрицал «Двенадцать» как политическую поэму. Здесь Блока можно ставить с Руже де Лилем, Руже де Лиль написал знаменитую «Марсельезу» вовсе не потому, что был яростным якобинцем. Он им не был. А потому что как художник внезапно услышал музыку французской революционной стихии. И у него вышла «Марсельеза». Но Руже де Лилю самому пришлось скрываться и спасаться от этих яростных санкюлотов. И, сидя в своем убежище, он слышал, как санкюлоты на улице что-то поют. Руже де Лиль с интересом и удивлением спросил окружающих: «Что они поют?» Ему ответили: «Марсельезу». Он ее не узнал. В таком же положении был бы Александр Блок, если б присутствовал на каком-нибудь коммунистическом празднестве, где в «эстрадном» исполнении услышал бы свои «Двенадцать». Он тоже, конечно, их не узнал бы. Столь непохожий на эмоционального Блока, рассудочный Ходасевич точно и верно сказал о пушкинском «Кинжале»: «Даже такие «левые» стихотворения, как знаменитый «Кинжал», по существу, не содержит никакой левизны. «Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза» — это программа литературная, эстетическая, а не политическая. Карамзин в «Письмах русского путешественника» рассказывает об аристократе, который примкнул к якобинцам. На недоуменные вопросы, к нему обращенные, он отвечал: «Que faire? J'aime les t-t-troubles».[6] (Аристократ был заика.)