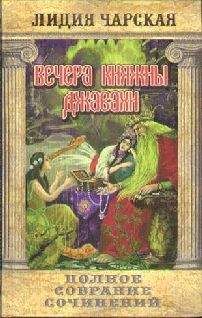Владимир Приходько - Лидия Чарская: второе рождение
В «Сибирочке» имеется даже негритянка, Элла: «черное тело, но душа розовая, как утренняя заря», «сердце… золотое», «светлая душа». Тем же годом, что и «Сибирочка», датировано стихотворение «Белая и Черная» («Задушевное слово», 1908, с. 458):
Две подруги, Гера с Ликой,
Посмотрите, так дружны!
Рядом с крошкой бледноликой
Дочь полуденной страны…
Роза Африки далекой
Как смугла и как черна!
Подле Лики синеокой
Страшной кажется она…
Губы толстые, большие,
На конце расплющен нос,
Кудри мелкозавитые,
Будто вовсе нет волос.
Странно выпучены глазки…
Но взгляните, что в них есть?
Сколько преданности, ласки
Можно ясно в них прочесть,
Сколько кротости покорной,
Что так в детях хороша…
О, под этой кожей черной,
Ясно, белая душа!
И это шовинизм?..
Воевать с целым государством (лицемерно внушавшим, что в стране осуществлены идеалы русского революционного движения, торжествует свобода) Чарской было, конечно, не под силу. Но дети, не читающие энциклопедий, Чарскую не забыли, не разлюбили, и не только те несколько маленьких ленинградцев, ее знакокмцев. Ее книги тайно передавались из рук в руки, переписывались, обсуждались, пока — это было уже на исходе Отечественной войны или даже несколько позже — не затрепались последние экземпляры «Лизочкиного счастья» или «Записок маленькой гимназистки» (сохранились лишь у редких коллекционеров).
«„Убить“ Чарскую (заметьте: убить, пусть даже в кавычках. — В. П.), несмотря на ее мнимую хрупкость и воздушность, — огорчался С. Маршак на I Всесоюзном съезде советских писателей (1934), — было не так-то легко. Ведь она и до сих пор продолжает… жить в детской среде, хотя и на подпольном положении». Тогда же журнал «Звезда» напечатал статью Евгении Данько «О читателях Чарской». Эта ленинградская беллетристка даже провела анкетный опрос школьников, почему читают. И не просто читают. Разыскивают в бывших гимназиях комнату, где жила Джаваха. Мечтают хоть одним глазком взглянуть на ее «замок» в Гори. Девятилетняя девочка бредит женским институтом. На вопрос: «Почему тебе туда хочется» отвечает шепотом: «Хочу, чтобы классные дамы меня мучили, мучили, а я любила одну девочку, только одну, и заболела бы и умерла, как Ниночка Джаваха (княжна умирает в „Записках институтки“). Вот сколько „почему“».
Данько писала, что вопрос о «романтическом лубке» Чарской «не разрешить окриками и вылавливанием „запретных“ книг из школьных столов. Эти меры вызывают враждебную настороженность ребят. Книги Чарской, спустившись в подполье, становятся еще более соблазнительными». Но бороться с ними будто бы необходимо.
И хотя ее статья выдержана была в тоне более спокойном, чем статья Чуковского, обе твердили одно и то же: «Чарская — это пошлость в искусстве, это китч. Слово „китч“ произнесено не было: употребляться оно стало у нас лишь недавно. И все же речь Шла именно про то, что мы называем сейчас — китч. Что же такое китч? Это не только подделка, адресованная низкому, неразвитому вкусу. Китч имеется в каждом произведении искусства, которое слишком легко, без усилий, нравится слишком широкому кругу; в стихах, поздравительной открытке, скульптуре, фильме, эпитафии, мелодии, лозунге. Когда мы видим длинную очередь на выставку модного художника, в которой стоят люди, в целом равнодушные к живописи, мы знаем: их привлекает китч».
Но можно ли говорить про китч в детской литературе?
Есть множество книжек, которые надо читать вовремя, в детстве. Опоздал — пропало, скоропортящийся продукт. А вот прочитанные в детстве, они навсегда сохраняют долю обаяния, потому что становятся частью нас самих. Напоминая о пережитом, воскрешают прежние чувства. Вот Достоевский, например, с неодобрением говорил о Дюма. Его произведения, мод, имеют сказочный характер: бенгальские огни, трескотня, вопли, вон ветра, молния. Достоевский посмеялся, что с героями Дюма случается необыкновенное: «…то они втроем осаждают город, то спасают Францию и совершают подвиги неслыханные». Значит, Дюма не художник, потому что «нё может удержаться в своей разнузданной фантазии от преувеличенных эффектов».
Вкусы вкусами, но немаловажно, что в детстве Достоевского «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» не было, а взрослый всей их прелести не чувствует.
Достоевский был убежден, что слава Дюма недолговечна: «…суд большинства еще не всегда бывает одинаков с судом потомства. От времени… мишура чернеет, опадает; остается чистая и голая правда».
Справедливо. Вместе с тем, нельзя не признать, что Достоевский ошибся. Отчего же его прогноз оказался неточным?
Что Дюма станет детским чтением, Достоевский не предполагал. Именно как книги для детей популярные романы пережили свою эпоху. Читают их сегодня ребята взахлеб, и чтение это не только занимательное, но и развивающее интерес к истории.
Дарование Чарской скромнее дарования Дюма. А закономерности здесь те же. Сделав ложные выводы о необходимости «борьбы» с Чарской, будто бы «инородным телом» в детском чтении, Данько верно заметила, что из «Лизочкиного счастья» читатель вырастет, как из старого пальтишка; что до определенного возраста ребенок «использует любой материал, лишь бы этот материал какой-то своей стороной годился на потребу формирующейся психике… служил трамплином для воображения и указывал выходы собственной, возрастной героике читателя». Но если так, спросим мы сегодня, зачем же «бороться»?..
Впервые после длительного замалчивания и хулы талант Чарской был признан В. Шкловским. «Сама Лидия Чарская была женщина талантливая: без таланта нельзя овладеть интересами целых поколений» (1966). Вера Панова написала: «Тогда Чарская имела головокружительный успех, и теперь, поняв, как это трудно — добиться успеха, я вовсе не нахожу, что ее успех был незаслуженным… Она ставила своих героев в самые невероятные положения, забрасывала в самые неимоверные места, но она хорошо знала все эти места… Знала и обыденную жизнь с ее нуждой и лишениями» (1972). Борис Васильев сказал, что повести Чарской «не только излагали популярно родную историю, но и учили восторгаться ею. А восторг перед историей родной страны есть эмоциональное выражение любви к ней. И первые уроки этой любви я получил из „Грозной дружины“, „Дикаря“, „Княжны Джавахи“ и других повестей детской писательницы Лидии Чарской» (1972).
Все эти добрые слова, однако, как-то затерялись и услышаны не были.
И наконец, в любви к Чарской признался детский писатель, от которого такого признания меньше всего ожидали. Искусным мастером, человеком высокого благородства, стойким и надежным товарищем назвал его Чуковский, то есть тот самый критик, что не оставил живого места на страницах Чарской. Все творчество этого писателя, по словам Чуковского, «крепко спаяно с нашей эпохой». Заподозрить его в мещанских симпатиях невозможно.
Кто же он? Леонид Пантелеев.
«Среди многих умолчаний, которые лежат на моей совести, должен назвать Лидию Чарскую, мое горячее детское увлечение этой писательницей… Сладкое упоение, с каким я читал и перечитывал ее книги, отголосок этого упоения до сих пор живет во мне — где-то там, где таятся у нас самые сокровенные воспоминания детства, самые дурманящие запахи, самые жуткие шорохи, самые счастливые сны».
Л. Пантелеев поведал, как впоследствии, спустя примерно десять лет, от своих наставников, по детской литературе узнал, что Чарская — «это очень плохо… эталон пошлости, безвкусицы, дурного тона». И вот, уже будучи автором книг для детей, раздобыл где-то роман Чарской, стал читать. Увы, ему действительно попались неуклюжие слова[1]. Пантелеев очень расстроился. Следовало взять и другие книги, но… писатель остановился: «Так и живут со мной и во мне две Чарские: одна та, которую я читал и любил до 1917 года, и другая — о которую вдруг так неприятно споткнулся где-то в начале тридцатых. Может быть, мне стоило сделать попытку понять: в чем же дело? Но, откровенно говоря, не хочется проделывать эту операцию на собственном сердце. Пусть уж кто-нибудь другой попробует разобраться в этом феномене. А я свидетельствую: любил, люблю, благодарен за все, что она мне дала как человеку и, следовательно, как писателю тоже. Я еще одно могу сказать: не со мной одним такое приключалось…»
В чем здесь дело, мы с вами уже знаем. Повести Чарской — дом, куда взрослым хода нет. В недавно опубликованных воспоминаниях Нелли Морозовой о Евгении Гинзбург есть страницы, посвященные Чарской. Автор «Крутого маршрута», пишет Морозова, «очень не жаловала критиков, искоренивших эту писательницу». Повести Чарской были невидимым прочным кирпичиком в нравственной основе, благодаря которой сумела не запятнать себя чужой кровью в сталинских лагерях и тюрьмах Евгения Гинзбург. Она говорила: «И что это за гонения на Чарскую? Страшнее Чарской зверя нет!.. Сентиментально, видите ли. Так ведь для детей писала. Сначала надо к сердцу детскому обращаться, а потом уж к уму. Когда еще ум разобраться сможет, а сердце уже сострадать научено. Больше всего боялись сострадания и жалости. Заметьте, сознательно безжалостных воспитывали… А помните вы „Княжну Джаваху“?» Евгения Гинзбург вспомнила также «Сибирочку», которую читала своим детям: «Мы плакали в три ручья, нет — в четыре! Алеша, старший. И Васька (впоследствии писатель Василий Аксенов. — В. П.), маленький совсем был, тоже слушал и ревел, на нас глядя» («Горизонт», 1989, 1, с. 48–49).