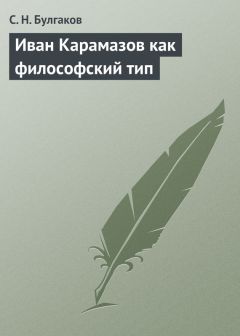Николай Михайловский - О Достоевском и г. Мережковском
Это необычайное слово вспоминается и Кириллову: «В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет», – говорит он {18} . Кириллов тоже страдает эпилепсией или находится накануне заболевания. Во всяком случае, ему знакомо то состояние блаженства, о котором говорит кн. Мышкин, и описывает его он почти слово в слово, как тот. Разница только, во-первых, в том, что момент невыносимого блаженства тянется у Кириллова несколько дольше (5-10 секунд), что, конечно, неважно; а во-вторых, в том, что Кириллов предвидит такое физическое изменение природы человека, которое даст ему «вечную жизнь», – «не будущую вечную, а здешнюю вечную», – поясняет он {19} . В этом новом физическом виде те блаженные секунды станут для человека вполне выносимыми, нормальными, человек будет богом…
Таков ряд мыслей Достоевского или его действующих лиц, который следует поставить рядом с его (или опять-таки его действующих лиц) убеждением в том, что человек по самой природе своей любит мучить других и сам мучиться, что жестокость и сладострастие суть его основные свойства. Я оговариваюсь: Достоевского или его действующих лиц, – но благодаря существованию «Дневника писателя» нет сомнения, что в основании своем это мысли самого Достоевского. Только некоторые крайние формы их, представляя собою все-таки авторскую, хотя и заведомо фантастическую мечту, авторское, хотя и неясное чаяние, усвоены им тому или другому действующему лицу. С какого-нибудь, например, Кириллова, ввиду его психической болезни, природного косноязычия, взволнованности по поводу предстоящего ему самоубийства, нельзя требовать логики, ясности мысли и изложения. Однако и в этом намеренно криво устроенном зеркале отражается автор. Но в этом как бы прятаньи за спиной своих собственных созданий нельзя видеть результат трусости, – Достоевский вообще ею не страдал и, напротив, даже щеголял эксцентричностью и парадоксальностью; но свои сомнения он естественно влагал в уста и лицам сомнительным.
Эту же черту встречаем мы и еще в одном цикле его идей, к которому теперь и обратимся.
«Лик мира сего очень не нравится» Достоевскому, но вместе с тем «русские порядки» представляются ему неприкосновенными настолько, что «нападение» на них, чисто словесное, было в его глазах равно воинствующему атеизму, нападению на самого Бога; правда, того особенного, исключительного Бога, который недоступен и враждебен богам других народов, но который должен их, однако, объединить и спасти. Значит, лик мира сего нехорош в той мере, в какой он несовместим с русскими порядками и противоречит им. Это прежде всего лик европейского мира. Западная Европа отнюдь не на всем своем длинном и трудном историческом пути вызывала в Достоевском отрицательные чувства. Она представлялась ему «великим кладбищем», где похоронены и его, Достоевского, светлые надежды (это же говорят Версилов и Иван Карамазов), но в настоящем он видит в ней мало хорошего, а в ближайшем будущем пророчит ей разгром и полное падение. Кроме этого общего пророчества, он высказывал немало частных политических предсказаний, назначая очень близкие сроки их исполнения. Ни одно из них пока не исполнилось, да и не предвидится их исполнения; и наоборот, ни одно из крупных политических событий, потрясших в последнее время мир, не было им предвидено. Одно из своих пророчеств он вложил в 1871–1872 годах в уста едва ли не отвратительнейшего из героев «Бесов» – Петра Верховенского; притом в форме не столько пророчества, сколько проекта. «Я думаю отдать мир папе, – говорит Верховенский. – Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: „Вот, дескать, до чего меня довели!“ – и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами шигалевщина. Надо только, чтобы с папой iniernationale [1] согласились; так и будет. А старикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово» {20} . Верховенский развивает этот проект Ставрогину, но и сам сомневается в его осуществимости. «Глупо? говорите, глупо или нет?» – спрашивает он, а Ставрогин и слушать его не хочет. Но через несколько лет в «Дневнике писателя» 1876 года (март, «Сила мертвая и силы грядущие») Достоевский уже от своего собственного имени и довольно пространно развивает мысль узколобого и наглого негодяя Петра Верховенского в виде пророчества. «Потеряв союзников-царей, – читаем там, – католичество несомненно бросится к демосу». И Достоевский сочиняет за папу «льстивую» речь, с которою тот обратится к демосу, и говорит: «Без сомнения, демос примет предложение». Любопытно следующее замечание, сопровождающее это предсказание: «Я уже раз говорил обо всем этом, но говорил мельком в романе. Пусть мне простят мою самонадеянность, но я уверен, что все это осуществится в Западной Европе в той или другой форме». Позволительно предположить, что такой уверенности у Достоевского не было, когда он влагал свою мысль в уста узколобого Верховенского.
Это тем вероятнее, что, возвращаясь вновь к этой идее в «Дневнике писателя» 1877 года (май – июнь, «И сердиты и сильные»), Достоевский употребляет уже не столь решительные выражения: «Если папство когда-нибудь будет покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социализма и соединится с ним воедино. Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос» и т. д.
Частности той легкомысленной политической диссертации, в которую тоже как частность вкраплено это предсказание, для нас не интересны. Общая же мысль Достоевского состоит в том, что идея всемирного единения людей есть коренная и неистребимая идея человечества – иногда всего человечества, так что и Тамерланы, и Чингис-ханы служили ей, иногда только европейского человечества, иногда только арийской расы. Впервые идею эту осуществила Римская империя. С падением Рима идея возродилась в виде всемирного единения во Христе. Но на этот раз великая идея воплотилась в двух формах, – римско-католической и восточно-православной. Католицизм объявил христианство неосуществимым без всемирной светской, государственной власти папы, и является в этом смысле прямым наследием языческой римской монархии. Ее же идею усвоила себе и Великая французская революция, и современный европейский социализм. Восточный христианский идеал исключительно духовного всемирного единения во Христе остался неприкосновенным. Достоевский называет его «русским социализмом». «Цель и исход русского социализма, – пишет он в единственном номере „Дневника“ за 1881 год, – всенародная и вселенская Церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созиждилась еще Церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в сердце многомиллионого народа нашего несомненно присутствует. Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм» {21} .
Западный идеал христианства получает оригинальное освещение в знаменитой «поэме» Ивана Карамазова «Великий инквизитор». Это, собственно, не христианство, а такая поправка к нему, которая изгоняет самого Христа. Католичество отвергло Христа и приняло «умного и могучего духа», искушавшего Христа в пустыне. Оно вооружилось мечом и облеклось в порфиру римского кесаря и основало земное царство. Из любви и снисхождения к людям, силы которых Христос слишком высоко оценивал, оно подделало учение Христа и вместо свободы, которой он хотел, потребовало от паствы послушания. Дело это еще далеко не закончено, но Великий инквизитор не сомневается в том, что оно будет благополучно доведено до конца. Перед ним рисуется картина многомиллионного робкого и покорного людского стада, гордящегося могуществом своих вождей, которые устроят земное царство этих глупых и слабых баранов и позволят им даже грешить, взяв на себя их грехи. «Мы все разрешим, – говорит Великий инквизитор Христу, – и они поверят решению нашему с радостию, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастия будем манить их наградою небесною и вечною. Ибо, если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они» {22} .
Не таков восточно-православный идеал христианства – «русский социализм» тож. Его девиз есть свобода, а не послушание, не покорность; братское единение, а не разделение на горсть управляющих и миллионы рабов. «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как рабом, а ведь для этой единственной цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой» («Дневник писателя», 1880, август). Правда, спускаясь с высоты идеала в низины действительности, Достоевский обличает отколовшихся от «русских порядков» «демократов» и «либералов» в том, что они тянут к «господчине», и противопоставляет им европейских демократов, всегда стоящих за народ, за массу или по крайней мере опирающихся на нее. Но отдельные выродки идут, пожалуй, и дальше. Таков в «Бесах» Шигалев. Этот полоумный человек сочиняет проект, довольно похожий на идеал Великого инквизитора. Надо только иметь в виду, что, по его признанию, он «запутался в собственных данных и его заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой он выходит». С одной стороны, он проповедник равенства, во имя которого «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалываются глаза, Шекспир побивается камнями». Но, с другой стороны, он совершенно в духе Великого инквизитора проектирует разделение человечества на две неравные части. «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». И, как опять-таки у Великого инквизитора, «желание и страдание для нас (для избранных), а для рабов шигалевщина», – комментирует Петр Верховенский {23} .