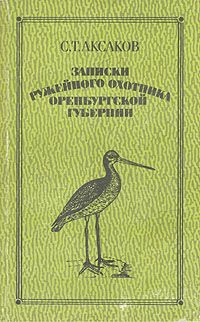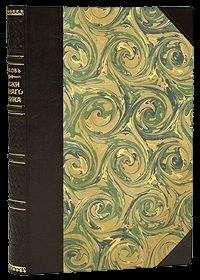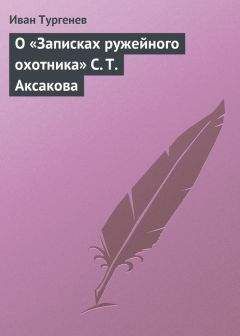Иван Тургенев - Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. С. А-ва.
В силу всех вышеизложенных причин я воображаю, что всякий естествоиспытатель с истинным наслаждением перечтет книгу г. А – ва. Покойный Одюбон пришел бы, я думаю, от нее в умиление.{31} Знаете ли вы, например, что одной из самых великих трудностей в естественной истории почитаются верные изображения наружного вида и цвета птиц? Посмотрите, как они все удались г. А – ву. Я тем более уверен в успехе «Записок ружейного охотника» между естествоиспытателями, что наука их в последнее время приняла направление более положительное и практическое, или, говоря точнее, направление, обращенное более на живое наблюдение и изучение природы, чем на составление тех иногда поэтических и глубоких, но почти всегда темных и неопределенных гипотез, которыми Шеллинг вскружил головы в начале нынешнего столетия.{32}
Скажу еще несколько слов о слоге «Записок» г. А – ва. Слог его мне чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого – свобода и точность выражения одинаково замечательны. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замечал, как мастерски умеет г. А – в описывать (некоторые отрывки были помещены в апрельской книжке «Современника»{33}). Теперь мне хочется обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Бывают тонко развитые, нервические, раздражительно-поэтические личности, которые обладают каким-то особенным воззрением на природу, особенным чутьем ее красот; они подмечают многие оттенки, многие часто почти неуловимые частности, и им удается выразить их иногда чрезвычайно счастливо, метко и грациозно; правда, большие линии картины от них либо ускользают, либо они не имеют довольно силы, чтобы схватить и удержать их. Про них можно сказать, что им более всего доступен запах красоты, и слова их душисты.{34} Частности у них выигрывают насчет общего впечатления. К подобным личностям не принадлежит г. А – в, и я очень этому рад. Он и тут не хитрит, он не подмечает ничего необыкновенного, ничего такого, до чего добираются «немногие»; но то, что он видит, видит он ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишет стройную и широкую картину. Мне кажется, что такого рода описания ближе к делу и вернее: в самой природе нет ничего ухищренного и мудреного, она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает; в самых своих прихотях она добродушна. Все поэты с истинными и сильными талантами не становились в «позитуру» пред лицом природы; они не старались, как говорится, «подслушать, подсмотреть» ее тайны; великими и простыми словами передавали они ее простоту и величие: она не раздражала их, она их воспламеняла; но в этом пламени не было ничего болезненного. Вспомните описания Пушкина, Гоголя или хотя то знаменитое место в «Короле Лире», где Эдгар описывает слепому Глостеру крутой морской берег, который будто падает отвесно у самых его ног:
Подойдите, сэр… Вот то место. Остановитесь. Как страшно!
Как кружится голова! так низко ронять свои взоры…
Галки и вороны, которые вьются там в воздухе на средине расстояния[9],
Кажутся едва ли так велики, как мухи. На полпути вниз
Висит человек, собирающий морские травы… ужасное ремесло!
Он мне кажется не больше своей головы.
Рыбаки, которые ходят по прибережью,
Точно мыши; а тот высокий корабль на якоре
Уменьшился до размера своей лодки; его лодка – плавающая точка,
Как бы слишком малая для зрения… Шумный прибой,
Который кипит и ропщет на бесчисленных каменьях, —
Здесь его не слышно… слишком высоко. Я больше глядеть не стану.{35}
Всего две-три черты; поэт не желает ни сказать что-нибудь необыкновенное, ни найти в картине, которая является его глазам, особенных не подмеченных еще черт; с верным инстинктом гения придерживается он одного главного ощущения – ощущения высоты, с которой глядит Эдгар, и уменьшения всех предметов, – и между тем, возможно ли еще что-нибудь прибавить? Древние греки так же просто взирали на природу: можно бы привести множество доказательств тому… Впрочем, они имели перед нами преимущество великое: в их счастливых устах поэзия впервые заговорила звучным и сладким языком о человеке и природе. (Признаюсь, я не умею сочувствовать литературам, предшествовавшим греческой.) Оттого ничего не может сравниться с бессмертной молодостью, с свежестью и силой первых впечатлений, которыми веет нам от песней Гомера. Я сейчас упомянул о Пушкине: отношения этого, по духу своему действительно древнего, поэта[10] к природе так же просты, естественны, как у древних, и, при всей смелости поэтических образов, совершенно здравы. Кто не знает его «Тучи»? Не откажу себе в удовольствии выписать всё это стихотворение:
Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась.
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.
Удивительно!.. Словом, описывая явления природы, дело не в том, чтобы сказать всё, что может прийти вам в голову: говорите то, что должно прийти каждому в голову, – но так, чтобы ваше изображение было равносильно тому, что вы изображаете, и ни вам, ни нам, слушателям, не останется больше ничего желать.
Но наше удивленное сочувствие к таким образам, к таким звукам не должно сделать нас несправедливыми к тем полуженским поэтическим личностям, о которых я упоминал выше, и счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдут отголосок в нашем сердце.{36} Я хотел только сказать, что г. А – в пошел не по их дороге, и, повторяю, его манера как нельзя более идет к добродушно-умному, ясному и мужественному тону всей книги.
Письмо мое вышло довольно длинно, а между тем сколько мне бы хотелось еще сказать вам: сообщить собственные наблюдения, поговорить о так называемых охотничьих «удачах и неудачах», об охотничьих суеверьях, преданиях и поверьях. Но я боюсь утомить и ваше внимание и внимание читателя. Отложу всё это до другого письма,{37} которое вы получите вскоре. Ограничусь теперь желанием, чтобы охота, эта забава, которая сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью, придает телу нашему здоровье и силу, а духу – бодрость и свежесть, – эта забава, которой тешились и наши прадеды на берегах широких русских рек, и герой народных баллад, стрелок Робин-Гуд, в веселых, зеленых дубовых рощах Старой Англии, и много добрых людей на всем земном шаре, долго бы еще процветала в нашей родине! Волшебный рог Оберона не перестанет звучать для «имеющих ухо», и Вебер не последний великий музыкант, которого вдохновит поэзия охоты!{38} Я сейчас сказал, что охота сближает нас с природой: один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах. Скажем искреннее спасибо г. А – ву за его книгу и пожелаем, чтоб другие пошли по его следам и рассказали нам все те многоразличные роды охоты, до которых он не коснулся. Кончаю словами «Урядника» Алексея Михайловича: «Паче же почитайте сию книгу, красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники, да многие вещи добрые и разумные узрите и разумеете. Аще с разумом прочтете, найдете всякого утешного добра…» и еще: «Будете охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие».{39}
P. S. Я слышал, что «Записок ружейного охотника» готовится другое издание{40} – успех их предупредил мои похвалы; тем лучше!
Октябрь – ноябрь 1852.
Село Спасское.
Примечания
Источники текста
Автограф двух отрывков текста статьи, исключенных цензурой и приведенных Тургеневым в письме к С. Т. Аксакову от 5, 9 (17, 21) февраля 1853 г. – ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 70, л. 10–10 об.
Совр, 1853, № 1, отд. III – Критика, с. 33–34, с пропусками цензурного происхождения.
Т, Соч, 1880, т. 1, с. 293–307.
Впервые опубликовано: Совр, 1853, № 1, с подписью: И. Т. – и датой «Октябрь – ноябрь 1852» (ценз. разр. 31 декабря 1852 г.).
Печатается по тексту: Т, Соч, 1880.
Датируется октябрем – первой половиной декабря 1852 г. на основании переписки Тургенева. 17(29) октября 1852 г. он писал С. Т. Аксакову, что рецензию на его книгу «только что кончил» и отправляет «с нынешней почтой в Петербург». Однако рецензия не была послана, что явствует из письма Некрасова к Тургеневу от 21 октября ст. ст. 1852 г., в котором тот требовал: «Присылай свою статью о книге Аксакова» (Некрасов, т. X, с. 179). Оправдываясь перед Некрасовым, Тургенев в письме к нему от 18 и 23 ноября (30 ноября и 5 декабря) 1852 г. ссылался на отсутствие в Спасском-Лутовинове переписчика и обещал, что рецензия будет в редакции «Современника» непременно «к 15-му декабрю».