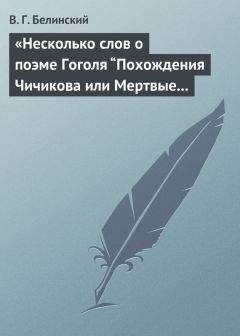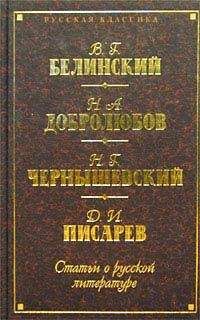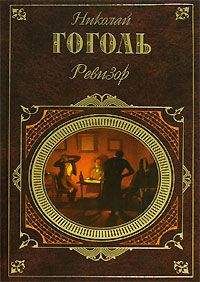Павел Анненков - Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху
Из детей этого вельможи-арапа, один, именно генерал-аншеф от артиллерии, Петр Ганнибал, дожил до 1822-го года. Его-то именно и видел Пушкин, когда в 1817 году приехал в Михайловское с семейством прямо из лицея. Забавно, что водка, которою старый арап подчивал тогда нашего поэта, была собственного изделия хозяина: оттуда и удовольствие его при виде, как молодой родственник умел оценить ее и как развязно с нею справлялся. Генерал-от-артиллерии, по свидетельству слуги его, Михаила Ивановича Калашникова, которого мы еще знали, занимался на покое перегоном водок и настоек и занимался без устали, со страстью. Молодой крепостной человек был его помощником в этом деле, но, кроме того, имел еще и другую должность. Обученный через посредство какого-то немца искусству разыгрывать русские песенные и плясовые мотивы на гуслях, он погружал вечером старого арапа в слезы или приводил в азарт своею музыкой, а днем помогал ему возводить настойки в известный градус крепости, причем раз они сожгли свою дистилляцию, вздумав делать в ней нововведения, по проекту самого Петра Абрамовича. Слуга поплатился за чужой неудачный опыт собственной спиной, да и вообще, прибавлял почтенный старик Михаил Иванович, — когда бывали сердиты Ганнибалы, все без исключения, то людей у них выносили на простынях. Смысл этого крепостного термина достаточно понятен и без комментариев. Не мешает заметить, что Петр Абрамович долгое время состоял под судом за растрату каких-то артиллерийских снарядов и освобожден был от него только влиянием своего брата, Ивана.
Вероятно, по просьбе своего внучатного племянника, A.C. Пушкина, этот генерал-от-артиллерии уступил ему листок своих записок, начатых гораздо ранее автором — в чине еще артиллерии полковника. Этот листок, сохраненный Пушкиным в своих бумагах, и служит печальным образчиком тех познаний в русской грамоте и той способности к логическому мышлению вообще, какими обладал генерал-от-артиллерии и родной брат исторического лица, Ивана Абрамовича Ганнибала. Вот этот листок, списанный нами, без малейшего изменения в слоге и орфографии: «Отец мой служил в российской службе происходил во оной чинами и удостоился Генералом аншефского чина орденов святым Анны и Александра Невского, был негер, отец его был знатного происхождения то есть владетельным князем и взят вомонаты отец мой константинопольского двора из оного выкраден и отослан к государю Петру Первому, детей после себя оставил Ивана — Генерал Поручика — Петра артиллерии полковника — Иосифа морской артиллерии второго ранга капитана — Исаака — морской артиллерии 3 ранга капитана; дочерей Елизавету, которая была за Пушкиным вдовою, Анну, коя была за Генерал Майором Нееловым, Софья за Роткирхом. Братья сестры и зятья волею Божею все вроди и чада помре; остался я один, я и старший в роде Ганнибалов; теперь начну писать о собственном рождении, происходящим в чинах и приключениях. Родился я в 1742 году Июля 21 число по полуночи в городе Ревеле где отец мой в оном городе был Обер-Комендантом; восприемники были за очно вечно достойна Императрица Елизавета Петровна достойной памяти с Петром Третьим — в то же время пожаловано отцу моему 500 Псковской Губернии». Здесь и обрывается, к сожалению, записка, не исполнив обещания повествовать о приключениях.
Что касается до третьего сына (деда Пушкина по матери) Януария или Осипа Ганнибала, то это был сорвиголова и ужас семьи. Впрочем, первые основы математического образования и ему доставили, разумеется, при покровительстве брата Ивана Абрамовича, звание «морской артиллерии капитана второго ранга», но он уже, кажется, не признавал для себя обязательными никакие гражданские установления и порядки. Было уже говорено прежде о том, как от живой жены он обвенчался с девушкой, которую обманул самым наглым образом, но эта проделка обошлась ему весьма дешево: по приказанию императрицы Елизаветы, разведенный с обеими своими женами, он был сослан только на жительство в свое имение, с. Ми-хай ловское, где и мог предаться вполне обычным сельским наслаждениям помещиков того времени. Первой и законной его жене, известной бабке Пушкина, Марье Алексеевне, выделена была при этом часть из его другого имения, именно сельцо Кобрино (Петерб. губ.), где она вместе с дочерью, будущею матерью поэта, и жила сравнительно в бедности, под охранением своего шурина, соседа, помещика Суйды и опекуна, Ивана Абрамовича Ганнибала.
Нужда и горе развили в Марье Алексеевне практический ум, хозяйственную сноровку и способность понимать предметы в их отношениях к действительной и повседневной жизни. Простота, ясность и меткость ее речи, впоследствии так восхищавшие Пушкина и друга его, Дельвига, обусловливались отчасти и ограниченным кругом понятий, в котором вращалась Марья Алексеевна и через который смотрела на остальной мир. Предание изображает нам ее, как настоящую домостроительницу, по образцу, существовавшему еще очень недавно. Девичья ее, слышали мы, постоянно была набита дворовыми и крестьянскими малолетками, которые, под неусыпным ее бдением, исполняли разнообразные уроки, всегда хорошо рассчитанные по силам и способностям каждой девочки и каждого мальчика. Отсюда восходила она очень просто до управления взрослыми людьми и до хозяйственных распоряжений по имению, наблюдая точно также, чтобы ни одна сила не пропадала даром и т. д. В этой сфере вырастала дочь ее, Надежда Осиповна — балованное дитя, окруженное с малолетства угодливостью, потворством и лестью окружающих, что сообщило нраву молодой красивой креолки, как ее потом называли в свете, тот оттенок вспыльчивости, упорства и капризного властолюбия, который замечали в ней позднее и принимали за твердость характера. Жених ее — скромный, рассеянный и застенчивый гвардейский офицер, Сергей Львович Пушкин, умел пленить прежде всего Ивана Абрамовича Ганнибала, который, решаясь выдать за него свою бойкую крестницу, примолвил: «он не очень богат, но очень образован». Предания о фамилии Ганнибалов на этом и кончаются. Мы покидаем ее для того, чтобы заняться ее антиподом, полной, совершенной ее противоположностью, именно фамилией Пушкиных.
Не мудрено, что чесменский воин, герой Наварина и проч., принял Сергея Львовича Пушкина за очень развитого человека. Будущий племянник должен был внушить ему уважение, как представитель нового поколения, успевшего развиться на других основаниях, чем те, которые существовали еще в его собственной, патриархальной, полудикой и полуграмотной семье.
Сергей Львович и брат его, столь известный Василий Пушкин, получили полное французское воспитание, писали стихи, знали много умных изречений и острых слов из старого и нового периода французской литературы, и сами могли бойко размышлять о серьезных вещах с голоса французских энциклопедистов, последнего прочитанного романа или где-нибудь перехваченного суждения. Никто больше их не ревновал и не хлопотал о русской образованности, под которой они разумели много разнообразных предметов: сближение с аристократическими кругами нашего общества и подделку под их образ жизни, составление важных связей, перенятие последних парижских мод, поддержку литературных знакомств и добывание через их посредство слухов и новинок для неумолкаемых бесед, для умножения шума и говора столицы. К числу необходимости своего положения причисляли они и ухаживание за всякой своей и иностранной знаменитостью и проч. Дом Сергея Львовича в Москве действительно посещаем был членами того блестящего литературного круга, который в начале столетия образовался там около Карамзина; в числе друзей и знакомых дома встречаются самые почетные имена того времени — Жуковский, А. Тургенев, Дмитриев и проч., вместе с именами заезжих эмигрантов, туристов, артистов. То же было и у другого брата. Разумеется, внешние формы их жизни при этом уже во многом разошлись со старыми, первобытными обычаями дворянского существования. Сергей Львович, например, терпеть не мог деревни, если она не была видоизменением или продолжением городской жизни, и ни разу не посетил иных наследственных своих имений, как, например, Болдина (Нижегородской губ.), в чем его упрекали родные и еще упрекают доселе биографы; но это отвращение от сельского уединения помогло отцу нашего поэта, по крайней мере, освободиться от наклонностей, замашек и привычек тогдашнего помещичьего быта. Бесспорно, это был своего рода прогресс, но, к сожалению, по крайней своей ничтожности и ограниченности, он мало изменял все другие нравственные стороны человека и ничего не изменял в положении людей, зависевших от наших утонченных землевладельцев. Когда, гораздо позднее, для спасения Болдина послан был туда дельный управляющий, то он просто бежал из имения, при виде страшного разорения крестьян, в которое они были погружены беспечностью и образованными стремлениями помещика. Форма прогресса была не менее оригинальна и у Василия Львовича, но здесь нет надобности описывать ее, так как биография автора «Опасного Соседа» до нас не касается.