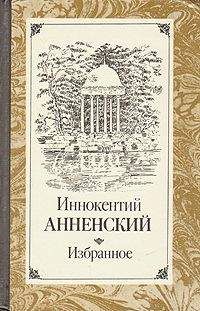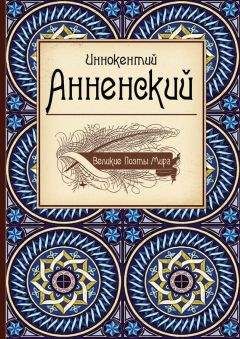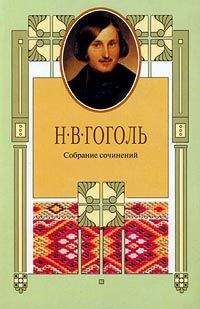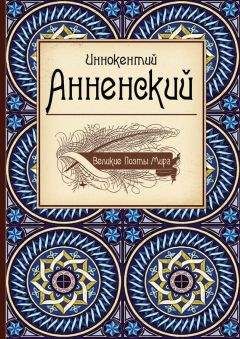Иннокентий Анненский - Проблема Гамлета
Зло для Гамлета прежде всего не в том, что заставляет нас страдать, что оскорбляет или позорит, а в отвратительном, грязно-сальном и скотском. Главный аргумент Гамлета против матери есть красота его отца. Именно эта красота давала ему право на счастье, власть, поклонение и любовь… Его убийца, может быть, не столько оскорбил христианского бога правды, сколько помрачил эллинских богов красоты. Идеал красоты отлился для Гамлета в своеобразную форму благородства…
Это — царственный идеал… Его эмблема — кудрявый и румяный феодал, который в сентябрьский полдень засыпает в своем саду на низком дерновом ложе, куда, кружась, падает и золотисто-узорный лист дуба, и лепестки поздней розы, и где он, улыбаясь, подставит доверчивое ухо и шепоту ядовитой белены.
Для Гамлета даже проклятый вопрос быть или не быть есть в существе своем лишь вопрос эстетической расценки. Кто знает, а если те злые сны, заметьте, не серный огонь призрака, а злые сны, т. е. нечто созерцательное и лишь красочно-мучительное, — те сны, говорю я, так принизят мой ум, который там может ведь потерять и свою огненную силу, — что самая возмутительная действительность, на которую теперь еще ум мой реагирует, должна быть им предпочтена? Офелия мучит Гамлета, потому что в глазах его неотступно стоит тень той сальной постели, где тощий Клавдий целует его старую мать. Непосредственное обаяние Офелии Гамлет хотел бы свести к… ужасу, и чтобы он один, безумный зритель, мог созерцать из своей потаенной ложи, как в полутемной палате полоумный пасынок короля в компании убийц и мазуриков, шутов, сводней и нищих лицедеев устроил себе кресло из точеных ног фрейлины, которая, пожалуй, и сама не прочь видеть его так близко от своего белого платья.
Офелия погибла для Гамлета не оттого, что она безвольная дочь старого шута, не оттого даже, что она живность, которую тот хотел бы продать подороже, а оттого, что брак вообще не может быть прекрасен и что благородная красота девушки должна умирать одинокая, под черным вуалем и при тающем воске церковной свечи.
Гамлет завистлив и обидчив, и тоже как художник.
Завистлив Гамлет? Этот свободный ум, который даже слов призрака не может вспомнить, так как не от него зависит превратить их в импульс, единственный определитель его действий? Да и как же может завидовать он, столь не соизмеримый со всем, что не он?..
Видите ли: зависть художника не совсем то, что наша…
Для художника это — болезненное сознание своей ограниченности и желание делать творческую жизнь свою как можно полнее. Истинный художник и завистлив и жаден… я слышу возражение — пушкинский Моцарт. — Да! Но ведь Гамлет не Сальери. Моцарта же Пушкин, как известно, изменил: его короткая жизнь была отнюдь не жизнью праздного гуляки, а сплошным творческим горением. Труд его был громаден, не результат труда, а именно труд.
Но зависть Гамлета может быть рассматриваема как одна из условностей его индивидуализации…
Хитрый Амблетто легенды, наперсник дальновидной судьбы, обратился в меланхоличного субъекта, толстого, бледного и потливого, который до тридцати лет упражнялся в философии по виттенбергским пивным, а потом попробовал в Эльсиноре выпустить феодальные когти.
Гений Шекспира, поэта и актера, не оставляет нам, однако, никаких сомнений в том, что Гамлет — лицо. И даже чем безумнее толчея противоречий, прикрытая этим именем, тем сильнее для нас обаяние его жизненности.
Итак, Гамлет завистлив…
Кому же он завидует? Спросите лучше, кому он не завидует?
Туповатой уравновешенности Горацио, который не различает в принимаемой им судьбе ее даров от ее ударов.
Слезам актера, когда актер говорит о Гекубе, его гонорару… его лаврам даже. Мечте Фортинбраса, Лаэрту-мстителю и Лаэрту-фехтовальщику, кончику красного языка, который так легко и быстро движется между свежих губ Озрика, может быть, и его эвфуизму (вспомните письмо к Офелии). Юмору могильщика… корсажу Офелии и, наконец, софизмам, они придуманы не им, Гамлетом.
Гамлет-художник не жалеет Гамлета-человека, когда тот оскорбил красоту.
Шумная риторика Лаэрта и бесвкусие его гипербол так раздражили Гамлета, что он соскакивает в могилу Офелии в готов тут же драться с ее братом… даже быть засыпанным заживо — что хотите, — только пусть замолчит этот человек. Но через какой-нибудь час Гамлет уже кается: он — больной, он сумасшедший человек, и только этим можно объяснить, что он не оценил благородной красоты Лаэрта. И, может быть, Лаэрт кажется ему при этом красивее именно потому, что сам он, Гамлет, проявил себя так неэстетично.
Итак, Гамлет символизирует не только чувство красоты, но еще в сильнейшей мере ее чуткое и тревожное искание, ее музыку…
Гамлета походя называют гением; вспомните за последнее десятилетие хотя бы Куно Фишера[17] и Брандеса.[18] Но что же это за гений без специальной области творчества? Если Гамлет гений, то это или гениальный поэт, или гениальный артист.
IV
Страдающий Гамлет? Вот этот так не умещается в поэта. В страдании Гамлета нам чувствуется что-то и несвободное и даже не лунатичное. Страдание Гамлета скучно и некрасиво — и он его скрывает. Содержание пьесы и даже легенды достаточно объясняют нам личную трагедию Гамлета, и я не буду повторять их здесь. Но мне обыкновенно казалось, что Гамлет, красиво и гениально рисуя пороки и легко вскрывая чужие души, точно бы это были устрицы, всегда что-то не договаривает в личных откровениях.
Между Гамлетом и призраком есть неподвижная, но растущая точка. Есть мысль, которая так никогда и не сойдет у Гамлета с языка, но именно она-то должна связывать ему руки: эта мысль делает ему особенно противным Клавдия, болезненно-ненавистной мать, и она же разжигает его против Лаэрта в сцене на кладбище. Дело в том, что поспешный брак Гертруды не мог не накинуть зловещей тени на самое рождение его, Гамлета. Недаром же ему так тяжело смотреть на едва заневестившуюся Офелию. Старая Офелия и молодая Гертруда создают в его душе такой спутанный узел, что Гамлет стоит на пороге сумасшествия, а в этом узле, как режущая проволока, чувствуется еще и Клавдий, — не столько убийца, сколько любовник, муж, даже отец, может быть… его отец… Не этот Клавдий, так другой… где ручательство, что Гертруда… если…
Послушайте Лаэрта:
Будь лишь одна во мне спокойна капля крови,
То я подкидыш, мой отец отцом мне б не был,
И непорочной матери чело
Клеймом блудницы прожжено.
Гамлет перед отправлением в Англию загадочно называет Клавдия матерью.
Гамлет
В Англию?
Король
Да, Гамлет.
Гамлет
Хорошо.
Король
Да, если б ведал ты намерения наши.
Гамлет
Я вижу херувима, который их видит.
Итак, едем в Англию. Прощай, мать дорогая!
Король
Нет, Гамлет, любящий отец твой.
Гамлет
Мать. Отец и мать — муж и жена; муж и жена одна плоть; а потому: мать.
Итак, едем в Англию.
(Уходит.)
(IV, 3, 45 слл)[19]Тайна рождения его, Гамлета, решительно ни при чем во всех откровениях призрака. Разве он-то сам мог ее знать, этот доверчивый и румяный феодал, которому еще снились левкои, когда сок белены уже добирался до его сердца.
Некоторый повод к нашей догадке насчет мысли, которая отравила Гамлету существование, — мог подать Бельфоре.[20]
Драматург несомненно был знаком с его повестью. Гамлет представлен там ведуном, и вот в Англии он бросил замечание, что у короля рабский взгляд. Король был очень заинтересован словами датского принца, особенно когда перед этим другие слова его, которые казались окружающим столь же безумными, оправдались самым неожиданным образом. Но послушаем рассказ:
Король обратился к матери и тайно отвел ее в комнату, которую запер за собою. Он просил ее сказать, кому обязан он своим появлением на свет. Королева, уверенная, что никто не знал о ее связях и проступках, клялась ему, что только один король пользовался ее ласками. Он же, достаточно уверенный в справедливости слов датского принца, пригрозил матери, что, если она не ответит ему по доброй воле, он заставит ее отвечать силой. И тогда она призналась ему, что подчинилась когда-то рабу, который и был отцом короля Великой Британии. Это и удивило и изумило его. Но он скрыл все, предпочитая оставить грех безнаказанным, чем подвергнуться презрению подданных, которые, может быть, тогда не захотели бы иметь его своим правителем (из книги К. Р.).[21]
Слова эти ясно доказывают одно: Шекспир имел в своем распоряжении мотив мучительной неизвестности рождения и даже с тем его оттенком, что человек, хотя бы и дознался о позорящей его тайне, не разгласит ее, а наоборот, постарается затушить.