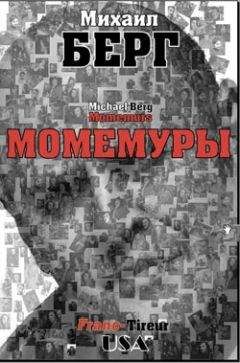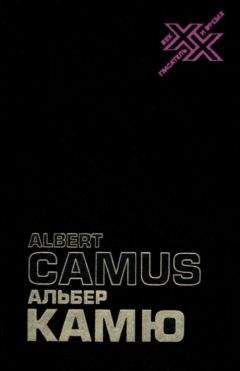МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА
Примером может служить полемика между Э. Лимоновым и А. Кабаковым, с которой нас познакомили «Московские новости», опубликовав очередную «пощечину, вызов общественному мнению» Лимонова с характерным названием «Лимонка» и не менее характерным подзаголовком – «Швырнуть в “интеллигенцию”». И ответ ему Кабакова «Подросток Савенко и другие подростки».
Ответ, конечно, интересней «вызова» хотя бы потому, что в нем присутствует попытка анализа, в то время как «пощечина» и есть пощечина – ее цель одна: ударить побольнее и спровоцировать реакцию. А именно упрекнуть интеллигенцию, почему она вместо того, чтобы с автоматом в руках искать приключений, тихо и спокойно сидит за своими письменными столами. Цель достигнута – Кабаков вполне серьезно отвечает, пытаясь воедино связать такие разноречивые, разноприродные понятия, как «политические пристрастия автора» и особенности его «литературного дарования». И одновременно, явно становясь менее убедительным, старается подверстать конкретного оппонента к разряду неприятного ему литературного направления, цель которого – «ниспровержение, поношение и доуничтожение мифических шестидесятников; объяснение, почему хорош постмодерн как всесильный, потому что верный; анафема проповедничеству как безумию, бесчестию и бессовестности традиционной литературы; очередная тризна по как бы похороненной русской – чего уж вожжаться только с советской?! – литературе» (последний пассаж, конечно, предназначен уже не Лимонову, который, как русский патриот, теперь уже против русской литературы ничего и никогда, а, вероятно, Виктору Ерофееву с его знаменитыми «Поминками по советской литературе»).
Но давайте разберемся по порядку. Вот как Кабаков описывает литературную биографию своего оппонента. «Автор, прославившийся грустной историей русского поэта в Нью-Йорке, историей абсолютно романтической и при этом вполне традиционной по литературному исполнению – с узнаваемыми прототипами героев, с весьма тонко, по классическим правилам прописанной психологией; написавший несколько уж совсем биографических повестей – отчасти в традициях классического, отчасти “грязного”, а отчасти и социалистического реализма; активно работающий во вполне внятной, конкретной политической журналистике…»
Цель этого пассажа и последующих комментариев очевидна – полемически принизить оппонента, привязав его, с одной стороны, к романтической «буре и натиску», а с другой – к неизжитому комплексу подростковой неполноценности, который-то и заставляет метаться автора с автоматом в руках от одной горячей точки к другой. Кстати, неизжитая подростковость, незрелость есть для Кабакова вообще отличительная особенность «другой, новой, постмодернистской, концептуалистской» (называют ее по-разному) литературы, которая ведет борьбу с шестидесятниками (а сочувствие Кабакова последним очевидно).
Оговорюсь, что в литературной борьбе двух разных направлений нет ничего ужасного. Литературная борьба, даже полемически заостренная, помогает порой выяснять, выявлять реальные литературные особенности и отличия, уточнять понятия, способствуя более правильному пониманию как сущности литературы, так и обстоятельству, чрезвычайно важному для литературного процесса, – а именно как время изменяет способ прочтения и отношение к произведению, еще вчера зачитанному до дыр, а сегодня пылящемуся на полках и мало кому интересному.
Да, шестидесятники сыграли огромную и до сих пор непроясненную роль в развитии советской литературы. Просветители в условиях «полного затемнения». Они попытались рассказать читателю-современнику правду о нем самом, будучи поставленными в достаточно жесткие цензурные рамки, которые поневоле делали эту правду усеченной, неполной, в результате чего эта правда-реальность становилась намеком на реальность. Но и за этот намек читатель-современник был признателен автору. Если говорить о некоем типичном шестидесятнике (которого реально в природе, конечно, не существует), то он взял на себя исторически важную миссию – вернуть литературе право на описание простого человека и простой частной жизни. В условиях, когда государство пыталось заменить собой все, в том числе мысли и чувства обывателя, возвращение в литературу простого, негероического существования казалось (да и было по существу) несомненным литературным достижением, способствующим развитию столь ущемленного чувства ценности частной жизни.
Но, конечно, шестидесятничество (как, впрочем, и новая литература) не было ни кастой, ни сектой, было разнородно и разноречиво. Скажем, Фазиля Искандера, на прозаическом слове которого благотворно сказался речевой сдвиг Платонова, и Андрея Битова с его способностью так описывать любую мелочь, что она казалась ловушкой для времени, прочло и следующее за ними поколение. В то время как многие другие, честные, добросовестные, но не забывающие о необходимом компромиссе шестидесятники (как и их многочисленные последователи) принадлежат только истории литературы, хотя ввиду особой литературной и общественной ситуации занимают – скажу осторожно – не вполне определенное место в современной литературе.
То, что мы называем «новой литературой» (которая, конечно, шире постмодернизма), отличается от литературы шестидесятников своей раздражающей многих «нетенденциозностью», «литературностью», отказом не, как упрекают, от истины, а признанием многовариантости истины или истин, которые, как и выражающие их языки, сосуществуют, ни в коем случае не подменяя друг друга. Мне трудно согласиться с утверждением Кабакова, что «новую литературу» (или – в его терминологии – постмодернизм) можно свести к голому приему, к перебору «скрытых цитат, парафразов и стилизаций», к разъедающей реальность иронии, «к замене иерархии ценностей каталогом». Не случайно тех, кого теперь именуют «чернушниками» или «концептуалистами» (что опять же не одно и то же), в отличие от многих шестидесятников-правдолюбцев, отличала в застойное время куда более четкая гражданская позиция. Те, кого Кабаков в полемическом запале обвиняет в «неумении жить и писать всерьез», как и в «безрассудном, униженном уважении политики, политиков и командиров» (здесь, думаю, Кабакова подвело желание представить Лимонова в качестве типичного героя отрицаемого им направления, что, конечно, не так), были настолько серьезны в своем отношении как к литературе, так и к жизни, что многих из них правильнее было бы обвинить в излишнем максимализме, принципиальном неумении идти на компромисс, нежели в соглашательстве. «Восьмидесятников» в отличие от шестидесятников хронически не печатали, а их гражданская стойкость стоила многим из них очень дорого. Мне кажется, заблуждение Кабакова зиждется на попытках вычленить из литературного произведения жизненную установку, а это вопиющая ошибка – жизнь и литература несомненно взаимосвязаны, но не однозначно.
И здесь пора опять вернуться к Лимонову, и не только в качестве примера дифференциации общественной и литературной позиции.
Лимонов без преувеличения большой писатель хотя бы потому, что ему удалось то, что удается раз если не в сто лет, то по крайней мере раз за тот весьма неуловимый период времени, когда жизнь, внешне оставаясь вроде бы такой же, как вчера, начинает почти незаметно меняться, меняться, а потом вдруг оборачивается новой эпохой. Лимонов вывел на сцену действительно нового героя и новый тип автора-повествователя. Подчеркну, что имею в виду именно связку «герой-повествователь». И их отличительное свойство – принципиальное неблагородство. Это не просто хрестоматийный, правоверный бунтарь и последовательный эксцентрик. Сравнение с романтической установкой Максима Горького, которое приводит Кабаков, мне кажется неточным. Если проводить аналогию с прошлым веком, то уместней вспомнить не романтическую (всегда благородную, овеянную пафосом противостояния творца и толпы), а галантерейную литературу. То, что начал Бенедиктов (и его эпигоны) и продолжил Северянин. И что в нашем веке обернулось новым реальным героем нашего времени и имеет отчетливую люмпен-пролетарскую окраску.
«Русская литература – как животворение – отнюдь не всегда озвучивала души только благородные и возвышенные, наблюдательные и чувствительные, но сам автор “русской литературы” обязан был быть благородным. Для многих творчество становилось преградой наоборот: в литературу могли войти только те, у кого дух был высокого и стройного роста. Все мелкотравчатое шло рядом, мимо, проходило сквозь поэзию, как игла сквозь воду, не оставляя следа. А ваши тексты пытаются “вочеловечить” душу поэтически “мелкого” человечка, что-то среднее между кретином и педерастом», – я позволил себе процитировать отрывок своего же письма пятнадцатилетней давности другому писателю – скончавшемуся в 1981 году, Евгению Харитонову.