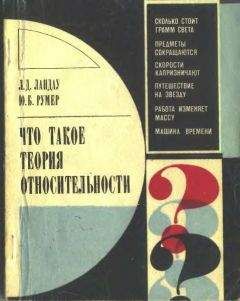Юрий Барбой - К теории театра
Но в пределах театра, изнутри, дело обстоит не вполне так. Однонаправленная цепь актер — роль — зрители строго описывает лишь один тип театральной связи — тот, который строится в системах, подобных системе спектакля имени Станиславского. По существу мы это уже зафиксировали дважды и с разных сторон. В первый раз, когда рискнули довести требования Станиславского к актеру до теоретической крайности и в результате получили замену роли-характера живыми человеческими свойствами актера. Во второй раз — когда обсуждали ситуацию зрителя в такого рода системах: зритель там «третий» именно потому, что первотолчком действия в подобной системе не может быть ничто иное, кроме как творческий импульс актера; для него здесь воля к игре есть на самом деле воля к условному перевоплощению в роль, а «затем» к передаче с помощью этой «маски» своих живых чувств зрительному залу. Налицо та самая цепь, с помощью которой С. Владимиров предложил описывать театральные структуры. Но на таком, уже более конкретном, чем прежде, уровне, эта общая схема приложима не ко всякому спектаклю.
Напомним многократно цитированное (и множеством других источников подтверждаемое) описание работы И.В. Ильинского в «Великодушном рогоносце» В.Э. Мейерхольда: патологический ревнивец из фарса «с бледным застывшим лицом и на одной интонации, в однообразной картинной декламаторской манере, с одним и тем же широким жестом руки произносил свои пышные монологи. А над этим Брюно потешался актер, в патетических местах его речей проделывая акробатические трюки, а в моменты его драматических переживаний рыгая и смешно закатывая глаза»[58]. Понятно, как это делалось технически: акробатические трюки, рыгания и закатывания глаз были наложены на монотонную патетическую декламацию с помощью параллельного монтажа, то есть вмонтированы в декламацию по принципу «а в это время…». Но не менее понятно, что в описанной ситуации так сюжетно-повествовательно, как бывает в литературе или в раннем американском кино, эти приемы просто-напросто нельзя было использовать. Даже если пойти против очевидности и предположить, что все это «вышло случайно», объективно единственным смыслом происходящего могло оказаться и оказывалось только сравнение. Сравнивать же, буквально вне зависимости от намерений великого режиссера, можно было только «Ильинского» и «Брюно», и при этом сегодня-здесь-сейчас-сравниванием мог заниматься только третий: зритель. Выходит, что театр знает структуру «треугольника». Но только в театральном варианте смысл этой связи совсем не тот, что в романе. Читатель может получить возможность сравнивать «независимо» представших его взору героя и автора. Но когда Пушкин отмечает разность между собою и Онегиным, тоже и в этом специальном случае цель романиста не сравнение, а отстранение, объективация Онегина. Не несходство Онегина с Пушкиным, а несходство Пушкина с Байроном. В спектакле, само собой, демонстрируемое актером «он — не я», сама по себе «независимость», в романе обычно не фиксированная — все рассчитано на прямо противоположный эффект: сопоставление актера и роли как раз и есть то самое, что зрителю следует заметить.
Как в любой театральной системе, здесь зритель тоже поставлен в ситуацию выбора и на основании этого выбора воздействует на сценический фрагмент действия. Но выбирает он не трактовку роли Брюно, сопоставляет не свою трактовку с предложенной Ильинским. И такое ограничение связано с двумя причинами. Первая: Брюно — очевидная маска, то есть закрепленная «самотождественность», и зритель двадцатого столетия новой эры так же не властен ее переменить, как зритель пятого века до нашей эры. Вторая уже была названа: рядом с Брюно и если не независимо, то уж по крайней мере автономно по отношению к нему на сцене существует другая маска — маска Ильинского. В буквальном смысле, на котором мы настаивали прежде, и на нее тоже воздействовать нельзя. Однако, как в любой театральной системе, и здесь на сцене есть живой автор. Да, тут не Клэрон и не Михаил Чехов, которые, отдавая сценический образ публике, в ходе действия регулировали отношения этого «образа» с сегодняшним зрительным залом. Но ведь и Ильинский регулирующие функции выполнял не менее исправно. Только он участвовал в строительстве отношений между тремя автономными величинами — маски в составе роли, своей собственной маски и зрительного зала. Вовне такая работа повернута технической стороной: дело Ильинского-автора и соавтора Мейерхольда будет сделано, если ему удастся так выполнить монтаж, чтобы зритель ни на миг не потерял из виду ни одну из масок. Если зритель готов принять театральную условность, в «Трех сестрах» МХТ он драматически охотно встречается с теми живыми чувствами актера Константина Станиславского, которые этот актер выбрал для роли Вершинина; в «Великодушном рогоносце» он должен согласиться иметь дело с комбинацией из двух масок, а это значит — должен быть готов сравнивать их между собою, поскольку с такой комбинацией просто ничего другого сделать нельзя.
В первом случае зрительный зал приглашают к душевной работе со-чувствия, во втором — к интеллектуальной работе со-поставления. Это разное, но психологическое описание не наше дело. Для нас здесь единственно существенно, что в двух хрестоматийных театральных системах различаются не только составляющие их элементы, но связи и сам тип связей между элементами и, с другой стороны, характер элементов напрямую коррелирует с типом связей, с типом структуры. Мы не только не можем исключать — мы обязаны, далее, предположить, что чем более оформлены в виде маски или родственных ей образований элементы системы спектакля или элементы этих элементов, тем для них естественней и принудительней существование в «треугольнике»; чем более лабильной, индивидуализированной и сиюминутной удается сделать «жизнь человеческого духа» актера, чем мягче и подвижней форма роли, которую эти живые чувства неустанно одушевляют, тем прочней и одновременно незаметней та цепь, по которой драгоценный душевный ток течет от артиста через роль в зал.
По всей вероятности, тут не просто разные связи, это именно разные типы связей. И в такой констатации сегодня нет ничего не только экстраординарного, но и нового: идея «двух театров», параллельно идее двух кино, двух литератур и т. д., в театроведении существует так давно, что порой кажется, вопрос лишь в терминах: в искусствоведческой литературе на самом деле есть несколько пар понятий, каждую из которых и можно использовать и используют для называния таких художественных «пар», — например, поэтическое и прозаическое; синтетическое — аналитическое или условный театр — театр жизненных соответствий. Здесь, однако, есть несколько сложностей отнюдь не терминологического свойства.
Понятия о прозе и поэзии, возникшее в литературоведении, само по себе по справедливости требует поправки: называют ли словесность прозой в связи с ее эпичностью или с повествовательностью, а поэзией ассоциативную мысль или стихотворную форму, чистоте определений все равно мешает третий традиционный род — драма. Показательно, однако, что для типологизации несловесных искусств эту понятийную пару тем не менее применяли, и весьма успешно. Общеизвестное разделение советского кино на прозаическое и поэтическое, предложенное В.Б. Шкловским, во-первых, не было столь однозначным, как полагают его противники: достаточно вспомнить признание таких «кентавров», как «Мать» Вс. Пудовкина. Но и в виде жесткой дихотомии формула Шкловского, несмотря на то, что киноведение давно и с некоторым пренебрежением от нее отказалось, схватывала и схватывает нечто чрезвычайно существенное. В театральной мысли такого рода типология получила авторитетнейшее подкрепление блестящей статьей П.А. Маркова «Письмо о Мейерхольде». Марков не просто убеждал в том, что Художественный театр и театр Мейерхольда «не столь разноценны, сколь разноприродны»; он назвал эту природу: Мейерхольд — режиссер-поэт. Марков указал, например, на особую роль музыки, которая «живет в ритме движения, в рисунке мизансцен, в речи актера», но главным его аргументом был строение спектакля: «Мейерхольд часто делит спектакли на отдельные эпизоды — в своей совокупности они должны развернуть тему спектакля. Очень редко эти эпизоды следуют строгому сюжетному развитию или последовательно проводят сценическую интригу. Гораздо чаще они построены по принципу ассоциации — смежности или противоположности»[59].
Эта спокойная трактовка поэзии столь убедительна, конечно, потому, что опирается на самые ощутительные характеристики спектакля — на его форму, в первую очередь на композицию. Главный аргумент Маркова — ассоциация эпизодов вместо прозаического сюжетного развития или проведения интриги, то есть такого построения, где эпизод (если он композиционно значимая единица) вытекает из предыдущего, а из него вытекает следующий.