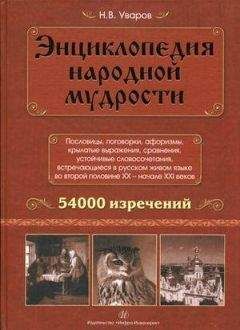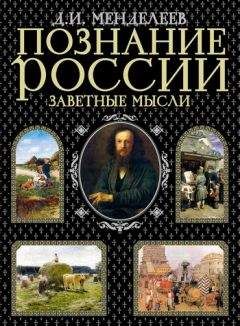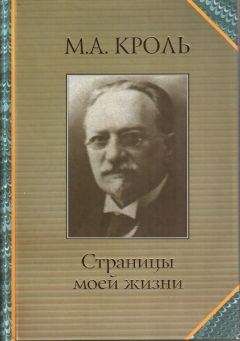Георгий Плеханов - Народники-беллетристы
Автор не всегда дает себе даже и тот небольшой труд, который нужен для придумывания хотя бы и наивных вопросов. Чаще всего он повторяет стереотипные фразы вроде: "Неужели все это правда?" или: "А ты не врешь все это?" — И эти фразы всегда в совершенно достаточной, а порою, как мы уже сказали, даже и в излишней мере возбуждают словоохотливость его собеседников.
Эти словоохотливые собеседники обыкновенно хорошо владеют народной речью [16]. К сожалению, они больше, чем это нужно, "заикаются от смущения", и тогда они говорят, например, так:
— "Ты… ты… ты… что ж это взъелся-то на меня? Разве я… я… я… обидел тебя чем?.. я… я… кажись, любовно с тобой", — и т. д. (т. II, стр. 146).
Согласитесь, что тут уже слишком много "заиканий", и что герой так выражает здесь свое смущение, как выражают его иногда плохие актеры на провинциальной сцене.
А вот еще одна особенность речи словоохотливых собеседников Наумова. Все они "с иронией говорят", "с иронией произносят", "с иронией спрашивают" и т. д., и т. д. Без "иронии" или "насмешки" они не произносят почти ни одного слова. Вот пример:
"— Што ж, ты спасеньем хоть согреваться, што ли, в этой скворешнице-то? — сиронией спросил он.
— Спасеньем! — ответил тот.
— Давно ли ты на себя блажь-то эту напустил?
— С тех пор, как Бог покарал меня за грехи мои.
— А-а-а, — протянул он, — стало быть, много же грехов-то было, хе, хе, хе, што заживо греют тебя? — с насмешкой спросил он…" (т. I, стр. 209).
Или:
"— Милости просим, батюшка… погости ужо, присядь, авось погодка-то и скоро перейдет на твое счастье… Не шибко, штобы красно у меня было здеся! — с иронией продолжал он" (т. I, стр. 30) — и т. д.
Эта всегда старательно отмечаемая автором "ирония", которая сменяется лишь "сарказмом" или "насмешкой", под конец надоедает и раздражает, как неуместное повторение одного и того же места. Автор легко мог бы избавить читателя от этой докуки, предоставив ему самому замечать иронию, когда она сквозит в словах действующих лиц. Он не сделал этого. Ему хотелось обрисовать характер русского народа. По его убеждению, ирония составляет одну из ярких черт этого характера, — и он насовал везде "иронии" и "сарказмов", не допуская даже и мысли о том, что они могут надоесть читателю.
У Наумова никогда не было большого художественного таланта. Но уже одного такого очерка, как "У перевоза" или "Деревенский аукцион", достаточно для того, чтобы признать его талантливым беллетристом. В пользу его художественного таланта свидетельствуют также
и т. п., как бы для напоминания читателю, что он, рассказчик, не "интеллигент", а крестьянин. Наумов так хорошо знает язык крестьянина, что ему ничего не стоило бы устранить этот недостаток. Но он, очевидно, даже и не замечает его, будучи равнодушен к форме своих произведений, многие отдельные сцены и страницы, разбросанные в двух томах его" сочинений. Но он не культивировал своего художественного таланта, лишь изредка позволяя ему развернуться во всю силу, чаще же всего сознательно жертвуя им ради известных публицистических целей. Это очень вредило таланту, но нисколько не мешало практическому действию сочинений.
II.Какие же практические цели преследовал Наумов в своей литературной деятельности? Их следует выяснить именно потому, что его деятельность встречала такое горячее сочувствие в среде самой передовой молодежи семидесятых годов.
В очерке "Яшник" автор, приступая к рассказу, делает следующую знаменательную оговорку:
Я не буду вдаваться в подробное описание лишений, горя и радостей, какие встречались в жизни Яшника, из опасения не только утомить внимание читателя, но и показаться смешным в глазах его. Описывая жизнь героя, взятого из интеллигентной среды, автор наверное может рассчитывать, что возбудит в читателе сочувствие и интерес к горю и радостям избранного им лица, потому что горе и радость его будут понятны каждому из нас. Но будут ли понятны нам горе и радость таких людей, как Яшник? Что сказал бы читатель, если бы автор подробно описал ему радость, охватившую Яшника, когда у него отелилась корова, купленная им после многих трудов и лишений и долго ходившая межумолоком, лишив детей его единственной пищи — молока? Разве не осмеял бы он претензии его описывать подобные радости таких ничтожных людей, как Яшник? В состоянии ли мы понять глубокое горе Яшника, просчитавшегося однажды на рубль семь гривен при продаже на рынке корыт, кадушек, ковшей, которые он выделывал из дерева в свободное от полевых работ время? Конечно, мы бы с удовольствием похохотали, если бы нам талантливо изобразили всю комичность этого бедняка, который несколько дней после того ходил, как потерянный, разводя руками и говоря: "А-ах ты, напасть, да не наказанье ли это Божеское: на целые рубль семь гривен обмишулился, а-а?" Но понять горе человека, убивающегося из-за такой ничтожной суммы, мы не можем. В нашей жизни рубль семь гривен никогда не играют такой важной роли, какую играют они в жизни таких людей, как Яшник. Мы отдаем более лакею, подавшему нам богатый обед в ресторане. Тогда как Яшник, для того, чтобы выручить рубль семь гривен и отдать их в уплату причитающейся с него подати, выгребал последний хлеб из закрома и вез его на рынок на продажу, питаясь с семьей отрубями, смешанными с сосновой корой и другими суррогатами, глядя на образцы которых, выставляемые в музеях, мы только пожимаем плечами от удивления: как могут люди питаться подобною мерзостью? Итак, избежав всех этих неинтересных для нас подробностей, я прямо перейду к рассказу того эпизода в жизни Яшника, который имел роковое влияние на судьбу его… (т. I, стр. 213).
Эта длинная оговорка есть прямой упрек нашему "обществу", которое не умеет сочувствовать народному горю. Изображению этого горя в одном из его бесчисленных проявлений посвящен цитируемый очерк. Сам по себе он очень плох: от него веет какою-то почти искусственною слезливостью. Но цель его совершенно ясна: Наумов хотел показать, что даже такой во всех смыслах маленький человек, как Яшннк — что-то вроде "сидящего на земле" Акакия Акакиевича — способен к благородным порывам и что уже по одному этому заслуживает сочувствия. Мысль эта, — нечего говорить, — вполне справедлива, но уж очень элементарна, до такой степени элементарна, что невольно спрашиваешь себя: да неужели же подобные мысли были так новы для передовой интеллигенции семидесятых годов, что она считала нужным горячо рукоплескать высказавшему их писателю?
В действительности передовая интеллигенция семидесятых годов увлекалась не этими элементарными мыслями Наумова, а теми радикальными выводами, которые она сама делала из его сочинений. Мы не знаем, когда был напечатан "Яшник", да это и неважно. Важно вот что: если этот очерк увидел свет еще в семидесятых годах, то он понравился передовым читателям, во-первых, вышеприведенным упреком обществу, живущему на счет народа, но неспособному понять и облегчить его положение, а во-вторых, изображением благородного характера несчастного Яшника. Это благородство являлось чрезвычайно отрадным и желанным свидетельством в пользу "народного характера", идеализация которого была совершенно естественной и необходимой потребностью лучших людей того времени. Теперь мы твердо знаем, что так называемый народный характер ни в каком случае не ручается за будущие судьбы народа, потому что он сам является следствием известных общественных отношений, с более или менее существенным изменением которых и он должен будет измениться более или менее существенно. Но это взгляд, который был совершенно чужд народнической интеллигенции семидесятых годов. Она держалась противоположного взгляда, согласно, которому основною причиной данного склада общественных отношений являются народные взгляды, чувства, привычки и вообще народный характер. Какой огромный интерес должны были иметь в ее глазах суждения о народном характере; ведь от свойств этого характера зависело, по ее мнению, все будущее общественное развитие нашего народа. Наумов нравился ей именно тем, что, по крайней мере отчасти, изображал народный характер таким, каким ей хотелось его видеть. Даже очевидные теперь недостатки его сочинения тогда должны были казаться большими достоинствами. Так, у Наумова, собственно говоря, есть только два героя: эксплуататор и эксплуатируемый. Эти герои отделены друг от друга целой бездной, и никаких переходов от одного к другому, никаких связующих звеньев не замечается. Это, разумеется, большой недостаток, сильно бросающийся в глаза при сравнении сочинений Наумова, например, с сочинениями Златовратского, где действующие лица являются по большей части уже живыми людьми, а не антропоморфными отвлеченностями. Но передовой интеллигенции семидесятых годов этот недостаток должен был казаться достоинством. Она сама была убеждена, что между крестьянином-кулаком и крестьянином-жертвой кулацкой эксплуатации нет ровно ничего общего; кулак казался ей случайным плодом внешних неблагоприятных влияний на народную жизнь, а не необходимым результатом той фазы экономического развития, которую переживало крестьянство. Постоянно возбужденная и готовая на все ради народного блага, она была уверена, что в сущности можно сразу и без очень большого труда, одним энергичным усилием снять с народного тела этот посторонний ему, извне наложенный на него слой паразитов. А раз у нее возникла и окрепла эта уверенность, ей уже сделалось неприятно читать такие очерки из народного быта, которые показывали ей, что она не совсем права, т. е. что эксплуатация крестьян крестьянином порождается не одними только так называемыми "внешними" влияниями на народную жизнь [17], — и, наоборот, ей стали особенно нравиться такие произведения, которые хоть немного подтверждали ее любимую мысль.