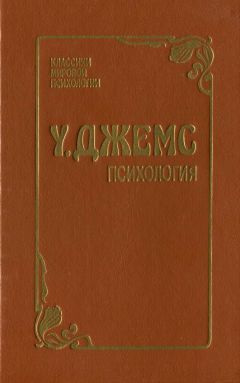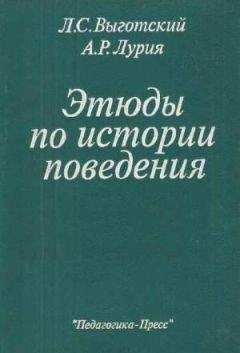Лев Выготский - Психология искусства
Такое определение возвращает нас назад к Лессиигу и даже к теориям еще более архаическим, к определениям басни Де-ля-Моттом и другими. Любопытно, что и теоретическая эстетика смотрит на басню с той же точки зрения и охотно сопоставляет басню с рекламным искусством. «К рекламной поэзии, – говорит Гаман, – нужно отнести все басни, в которых эстетический интерес к захватывающей истории так искусно использован для морали этой истории; ведению эстетики рекламы подлежит вообще вся тенденциозная поэзия; сюда относится далее вся область риторики…» (30, с. 80-81). За теоретиками и философами следуют критики и широкое общественное мнение, расценивающее басню весьма низко, как произведение неполноправное в поэзии. Так издавна за Крыловым установилась репутация моралиста, выразителя идей среднего человека, певца житейской практичности и здравого смысла. Отсюда оценка переносится и на самую басню, и многие вслед за Айхенвальдом полагают, что, начитавшись этих басен, «можно хорошо приспособить себя к действительности. Не этому учат великие учителя. Этому учить и вообще не приходится… Отсюда басня поневоле мелка… Басня только приблизительна. Она скользит по поверхности» (6, с. 7). И только Гоголь как-то вскользь и невзначай, сам не вполне сознавая, что это означает, обмолвился о невыразимой духовности басен Крылова, хотя в целом истолковал его в согласии с общим мнением, как здоровый и крепкий практический ум и пр.
Чрезвычайно поучительно обратиться к теории басни, которая понимает ее таким образом, и на деле увидеть, что же отличает басню от поэзии и в чем же заключаются эти особенности поэзии, явно отсутствующие в басне. Однако мы напрасно стали бы с этой целью рассматривать теорию Лессинга или Потебни, потому что основная тенденция того и другого направлена совершенно в другую сторону. Можно с неоспоримой ясностью показать, что тот и другой имеют все время в виду два совершенно различных по происхождению и по художественной функции рода басни. История и психология учат нас тому, что следует строго различать басню поэтическую и прозаическую.
Начнем с Лессинга. Он прямо говорит, что басня относилась древними к области философии, а не к области поэзии, и что именно эту философскую басню он и избрал предметом своего исследования. «У древних басня принадлежала к области философии, и отсюда ее заимствовали учителя риторики. Аристотель разбирает ее не в своей „Поэтике“, а в своей „Риторике“. И то, что Афтониус и Теон говорят о ней, они равным образом говорят в риторике. Также и у новых авторов вплоть до времен Лафонтена следует искать в риторике все, что нужно узнать об эзоповской басне. Лафонтену удалось сделать басни приятной поэтической игрушкой… Все начали трактовать басню, как детскую игру… Кто-либо, принадлежащий к школам древних, где все время внушалось безыскусственное изображение в басне, не поймет, в чем дело, когда, к примеру, у Батте он прочитает длинный список украшений, которые должны быть присущи басенному рассказу. Полный удивления, он спросит: неужели у новых авторов совершенно изменилось существо вещей? Потому что все эти украшения противоречат действительному существу басни» (150, S. 73-74). Таким образом, Лессинг совершенно откровенно имеет в виду басню до Лафонтена, басню как предмет философии и риторики, а не искусства.
Совершенно сходную позицию занимает и Потебня. Он говорит: «Для того чтобы заметить, из чего состоит басня, нужно рассматривать ее не так, как она является на бумаге, в сборнике басен, и даже не в том виде, когда она из сборника переходит в уста, причем самое появление ее недостаточно мотивировано, когда, например, прочитывает ее актер, чтобы показать свое умение декламировать; или, что бывает очень комично, когда она является в устах ребенка, который важно выступает и говорит: „Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна…“ Отрешенная от действительной жизни, басня может оказаться совершенным празднословием. Но эта поэтическая форма является и там, где дело идет о вещах вовсе не шуточных – о судьбе человека, человеческих обществ, где не до шуток и не до празднословия» (91, с. 4).
Потебня прямо ссылается на приведенное место из Лессинга и говорит, что «все прикрасы, которые введены Лафонтеном, произошли именно оттого, что люди не хотели, не умели пользоваться басней. И в самом деле – басня, бывшая некогда могущественным политическим памфлетом, во всяком случае сильным публицистическим орудием, и которая, несмотря на свою цель, благодари даже своей цели, оставалась вполне поэтическим произведением, басня, которая играла такую видную роль к мысли, сведена на ничто, на негодную игрушку» (91, с. 25-26). В подтверждение своей мысли Потебня ссылается на Крылова для того, чтобы показать, как не следует писать басню.
Из этого совершенно ясно, что и Потебня, и Лессинг одинаково отвергают поэтическую басню, басню в сборнике, которая кажется им только детской игрушкой, и все время имеют дело не с басней, а с апологом, почему их анализы и относятся больше к психологии логического мышления, чем к психологии искусства. Уже благодаря установлению этого можно было бы произвести формальный отвод одного и другого мнения, поскольку они сознательно и умышленно рассматривают не поэтическую, а прозаическую басню. Мы вправе были бы сказать обоим авторам: «Все, что вы говорите, совершенно справедливо, но только все это относится не к поэтической, а к риторической и прозаической басне». Уже один тот факт, что высший расцвет басенного искусства у Лафонтена и Крылова кажется обоим нашим авторам величайшим упадком басенного искусства, наглядным образом свидетельствует о том, что их теория относится никак не к басне как к явлению в истории искусства, а к басне как к системе доказательств. И в самом деле, мы знаем, что басня по происхождению своему несомненно двойственна, что ее дидактическая и описательная часть, иначе говоря, поэтическая и прозаическая, часто боролись друг с другом и в историческом развитии побеждала то одна, то другая. Так главным образом на византийской почве басня почти совершенно утеряла свой художественный характер и превратилась почти исключительно в морально-дидактическое произведение. Наоборот, на латинской почве она произрастила из себя басню поэтическую, стихотворную, хотя надо сказать, что все время мы имеем в басне два параллельных течения и басня прозаическая и поэтическая продолжают существовать все время как два разных литературных жанра.
К прозаическим басням следует отнести басни Эзопа, Лессинга, Толстого и других. К басням поэтическим – Лафонтена, Крылова и их школы. Одним этим указанием можно было бы опровергнуть теорию Потебни и Лесспнга, но это было бы аргументом чисто формальным, а не по существу, и скорее напоминало бы юридический отвод, чем психологическое исследование. Для нас соблазнительно, напротив того, вникнуть в обе эти системы и в ходы их доказательств. Может быть, те самые доводы, которые они приводят против искажения басни, окажутся в состоянии пролить свет на самую природу поэтической басни, если мы те же самые соображения с измененным знаком с минуса на плюс приложим к басне поэтической. Основной психологический тезис, объединяющий и Потебню и Лессинга, гласит, что на басню не распространяются те психологические законы искусства, которые мы находим в романе, в поэме, в драме. Мы видели, почему это происходит и почему авторам удается это доказать, раз они имеют дело все время с прозаической басней.
Нашим тезисом будет как раз противоположный. Задача состоит в том, чтобы доказать, что басня всецело принадлежит к поэзии и что на нее распространяются все те законы психологии искусства, которые в более сложном виде мы можем обнаружить в высших формах искусства. Иначе говоря, путь наш будет обратным, как обратна и цель. Если эти авторы шли в своих рассуждениях снизу вверх, от басни к высшим формам, мы поступим как раз обратным образом и попробуем начать анализ сверху, то есть применить к басне все те психологические наблюдения, которые сделаны над высшими формами поэзии.
Для этого следует рассмотреть те элементы построения басни, на которых останавливаются оба автора. Первым элементом построения басни естественно считать аллегорию. Хотя Лессинг и оспаривает мнение Деля-Мотта относительно того, что басня есть поучение, скрытое под аллегорией, однако он эту аллегорию вводит в свое объяснение вновь, но в несколько ином виде. Надо сказать, что самое понятие аллегории претерпело в европейской теории очень существенное изменение. Квинтилиан определяет аллегорию как инверсию, которая выражает одно словами и другое смыслом, иногда даже противоположное. Позднейшие авторы понятие противоположного заменили понятием сходного и, начиная от Фоссиуса, стали исключать это понятие противоположного выражения из аллегории. Аллегория говорит "не то, что она выражает словами, но нечто сходное " (150, S. 16).