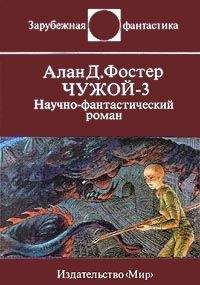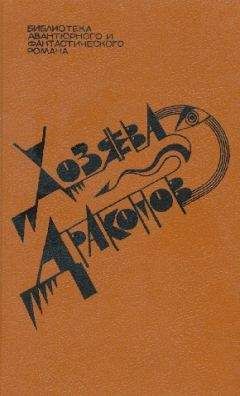Анатолий Бритиков - Русский советский научно-фантастический роман
В этом романе привлекает не только социально-критическая заостренность, не только драма Сальватора и Ихтиандра. Сальватор близок нам и своей революционной мыслью ученого: « — Вы, кажется, приписываете себе качества всемогущего божества? — заметил прокурор» (3, 184).
Да, Сальватор «присвоил» науке божественную власть над природой. Но он не «сверхчеловек», как уэллсов доктор Моро, и не сентиментальный филантроп. Вероятно, переделку самого себя человек поручит не только ножу хирурга. Для нас важно само покушение Сальватора, второго отца Ихтиандра, на «божественную» природу сына. Заслуга Беляева в том, что он выдвинул идею вмешательства в «святая святых» и зажег ее поэтическим вдохновением. Животное приспосабливается к среде. Разум начинается тогда, когда приспосабливает среду. Но высшее развитие разума — усовершенствование самого себя. Социальная революция и духовное усовершенствование откроют дверь биологической революции человека. Так сегодня читается «Человек-амфибия».
Не такие ли «стыки» революционного научного воображения с социальной революционностью имел в виду Ж. Бержье, говоря о большой роли советской научной фантастики в либерализации мировоззрения западной научной интеллигенции? Ведь богоборчество философии большевиков беспокоило идеологов реакции не меньше, чем разъяряла ее политиков устойчивость советской власти. Реакция по сей день вожделеет «освобождения от сатанинского человекобожия» коммунистов, как писал в свое время один из идейных пастырей белоэмиграции Петр Струве. [140]
Революционную идею «человекобожия» Беляев доносит без дидактической навязчивости. Она вложена в сюжет внешне несколько даже авантюрный, неотделима от захватывающих, полных поэзии картин (Ихтиандр в морских глубинах). Продолжая жюль-верновскую романтику освоения моря, Беляев приобщал читателя через эту романтику к иному, революционному мироотношению. Но и сама по себе эта фантастическая романтика имела художественно-эмоциональную и научную ценность: скольких энтузиастов подвигнул роман Беляева на освоение голубого континента!
Нынче разрабатывается проблема глубоководных погружений без акваланга, используя для дыхания воздух, растворенный в воде. Оттуда должны его извлечь механические жабры. Осуществляется и другая подводная фантазия Беляева — из романа «Подводные земледельцы» — о советских Ихтиандрах, собирающих урожай дальневосточных морей. В Японии и в Китае издавна культивировали на подводных плантациях морскую капусту. Работы велись с поверхности, вслепую. Беляев поселил своих героев на морском дне, там они построили дом. Тридцать лет спустя в подводном доме несколько недель провела группа знаменитого исследователя морских глубин Ж. Кусто, затем последовали более сложные эксперименты. Человек должен жить и работать под водой так, как на земле.
Мысль о достижении человеком безграничной власти над своей природой волновала Беляева и в других произведениях. Во «Властелине мира» сюжетная функция машины внушения не главная. Фантастическое изобретение Штирнера — Качинского понадобилось писателю для более общей фантастической идеи. Последняя, третья, часть романа — апофеоз мирного и гуманного применения внушения. Бывший кандидат в Наполеоны Штирнер уснул, склонив голову на гриву льва: «Они мирно спали, даже не подозревая о тайниках их подсознательной жизни, куда сила человеческой мысли загнала всё, что было в них страшного и опасного для окружающих» (4, 240). Этими строками заканчивается роман.
«Нам не нужны теперь тюрьмы» (4, 20), — говорит советский инженер Качинский. Его прообразом послужил Б. Кажинский, проводивший вместе с известным дрессировщиком В. Дуровым (в романе Дугов) опыты над изменением психики животных. Беляев развил эту идею: по «подсказке» Качинского Штирнер внушает себе с помощью свой машины другую, неагрессивную индивидуальность, забывает прошлое. Бывшие враги стали вместе работать над мыслепередачей, помогая рабочим координировать усилия, артистам и художникам — непосредственно передавать образы зрителям и слушателям. Мыслепередача у Беляева — инструмент социальной педагогики и организации, коммунистического преобразования личности и общества.
В 1929 г. вышел роман «Человек, потерявший свое лицо». Домышляя в нем возможности эндокринологии, Беляев набросал захватывающую перспективу искусственного воздействия на железы внутренней секреции: человек избавится от старческой немощи, освободится от физического уродства. Но талантливому комику Тонио Престо это принесло только несчастье. Красавицу-звезду экрана, в которую Тонио был влюблен и ради которой пошел на рискованное лечение, интересовало лишь громкое имя уморительного карлика. Кинофирмам нужно было лишь его талантливое уродство. Обретя совершенное тело, Тонио перестал быть капиталом, а его прекрасная душа никому не нужна. Изменившаяся внешность отняла у него даже права юридического лица.
Пока это была коллизия в духе Уэллса (вспомним «Пищу богов»). Внося в свои сюжеты советскую идеологию и материалистическое мировоззрение, Беляев нередко сохранял фабульную схему старой фантастики. Ихтиандр скрывался в океане от правосудия мошенников. Сальватор попадал за решетку. Профессор Доуэль гибнул. Престо, правда, сумел отомстить гонителям: стал во главе шайки униженных и оскорбленных, с помощью чудодейственных препаратов доктора Сорокина превратил яростного расиста в негра. Но такой финал не удовлетворил Беляева. Переделывая роман, писатель возвысил Тонио до социальной борьбы. Артист взялся за режиссуру, ставил разоблачительные фильмы, повел войну с кинокомпаниями. Новую редакцию Беляев назвал: "Человек, нашедший свое лицо" (1940).
Правда, это была уже несколько другая история: финал обособлялся от фантастической темы. Тем не менее в такой переделке заметна тенденция к социальному усложнению фантастического сюжета, к социально активному типу героя. В методе писателя появились новые элементы.
4
В романах, условно говоря, на биологическую тему (ибо по существу они шире) Беляев высказал самые смелые и оригинальные свои идеи. Но и здесь он был связан критерием научного правдоподобия. А в голове теснились идеи, не укладывавшиеся ни в какие возможности науки и техники. Не желая компрометировать жанр, к которому относился очень серьезно, писатель замаскировал свою дерзость юмористическими ситуациями и шутливым тоном. Заголовки «Ковер-самолет», «Творимые легенды и апокрифы», «Чертова мельница» заранее отстраняли упрек в профанации науки. Это были шутливые рассказы. В них Беляев, приверженец жюль-верновской научной фантастики, как бы спорил с самим собой, испытывал сомнением популяризируемую в романах науку. Здесь велся вольный поиск, не ограниченный ни научной, ни художественной системой. Здесь начиналась та фантастика без берегов, в которую окунется наш фантастический роман 60-х годов. Рассказ избавлял от неизбежного в романе углубленного освещения темы: сказочная фантастика этого просто не выдержала бы.
Но некоторая «система» все же была: изобретения профессора Вагнера — волшебные. А Вагнер среди героев Беляева — личность особенная. Он наделен сказочной властью над природой. Он перестроил собственный организм — научился выводить токсины усталости в бодрствующем состоянии («Человек, который не спит»); пересадил слону Хойти-Тойти мозг погибшего ассистента («Хойти-Тойти»), сделал проницаемыми материальные тела и сам проходит сквозь стены («Человек из книжного шкапа»). И этот Мефистофель пережил революцию и принял Советскую власть.
Меж фантастических юморесок прорисовывается образ не менее значительный, чем гуманист Сальватор («Человек-амфибия») и антифашист Лео Цандер («Прыжок в ничто»). Немножко даже автобиографический — и в то же время сродни средневековому алхимику. В иных эпизодах профессор Вагнер выступает чуть ли не бароном Мюнхгаузеном, другие настолько реалистичны, что напоминают о реальных энтузиастах-ученых в трудные пореволюционные годы («Человек, который не спит»). Это-то и заставляет слой за слоем снимать с вагнеровских чудес маскирующие вуали юмора и забавного приключенчества. Этот сложный сплав и дает почувствовать какую-то долю возможного в невозможном. Мол, не таится ли в научной сказке зародыш открытий? Вагнер возник на грани сказки и научной фантазии, чтобы замаскировать и в то же время объяснить эту мысль. Трудно иначе понять эту фигуру в центре целого цикла, трудно подыскать другое объяснение тому, что автор серьезных романов параллельно писал шутливую эпопею в новеллах.
«Изобретения профессора Вагнера» были как бы штрихами нового лица знания, которое еще неотчетливо проглядывало за классическим профилем науки начала XX в. Фигура Вагнера запечатлела возвращение фантастической литературы, после жюль-верновских ученых-чудаков и прагматических образов людей науки, к каким-то чертам чародея-чернокнижника. Приметы этого персонажа средневековых легенд отметил Ю. Кагарлицкий еще в героях Уэллса. [141] Таинственное его всемогущество сродни духу XX в., замахнувшегося на «здравый смысл» минувшего столетия. Открыв относительность аксиом старого естествознания, ученый развязывал поистине сказочные силы, равно способные вознести человека в рай или повергнуть в ад. Беляев уловил, хотя вряд ли до конца осознал, драматизм Вагнеров.