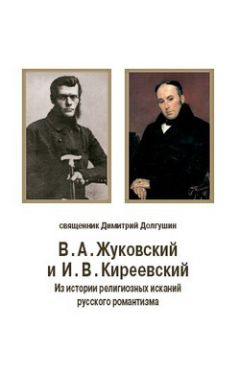Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
В 1835 г. та же БдЧ печатает, в сокращенном и огрубленном виде, анонимную статью «Германская философия», на деле переведенную с французского, но молчаливо выданную редактором за собственное сочинение. Подлинным ее автором был норвежец Швейгаард – сторонник опытного знания и убежденный, но при этом вполне корректный противник немецкого идеализма[248]. В изложении БдЧ немецкие философы «хотят создавать истину, а не познавать ее <…> Они придают душе деятельную, творческую, ясновидящую способность, которою, не сообщаясь с внешним миром, не оплодотворяясь его наблюдениями, не обогащаясь данными и опытностью, оно выводит само из себя соответственные вещам идеи <…> Вообразимость дела для них уже несомненная истина, которую они не познают, а сами построяют. Коль скоро вы в состоянии что-нибудь задумать мысленно, то, по их системам, это что-нибудь должно существовать в созданной природе и существовать точно так же, как вы его задумали и поняли. Разум, die Vernuft, разум внутренний, действующий сам в себе, без помощи внешнего мира <…> есть у них отдельная, волшебная способность ума, проникающая в сущность вещей и постигающая безусловно-подлинное, абсолютное <…> Он-то и есть подлинное бытие человека, подлинное бытие вещей, центр совокупления того и другого бытия, которое не наблюдает факты, но опережает их, определяет заранее». Короче, немецкие философы «одарили свой вымышленный разум беспредельным могуществом – творить или говоря их языком, построивать действительность».
Исходный импульс для этой общегерманской тяги к претенциозным абстракциям дала схоластическая метода Канта, учредившего тиранию отвлеченного разума над чувственным опытом: «От разума, созданного Кантом, до разума, построяющего вселенную, один шаг». Еще вреднее, однако, была роль Фихте: «У него не идея отражает действительность, а, напротив, действительность – оттиск идей; знание не зависит от свойств природы, а полагает, то есть производит их из себя как собственное дополнение <…> Безусловное лицо, Я, полагает мир внешний, не-Я как свой антипод и связывает его с собою безусловным синтезом». Тут, не довольствуясь оригиналом, плагиатор прибавляет: «Это очень ясно значит, что ум производит природу <…> для познания истины стоит лишь углубиться в это Я и выслушать его откровения»[249]. За Фихте последовал Шеллинг, все же подаривший «вещам такую же действительность, как и идеям, и соединивший их безусловным единством»; а остальное довершил Гегель, который в своей диалектике абсолютного духа смешивает понятия о вещах «с самими вещами <…> исправляя предмет по умственному образцу»[250].
Через несколько лет аналогичный солипсизм инкриминирует немецкой философии и особенно Фихте уже сам уваровский журнал. В довольно сумбурной статье профессора Тверской духовной семинарии В. Лисицына «Идеализм в его генетическом и историческом развитии» (1839) сказано: «Фихте самые вещи производит из души и в ней отождествляет и вещь и мысль <…> и почитая или выдавая вещь за реальную, впадает в ту иллюзию, будто из души действительно производятся реальные вещи»[251]. Лисицынская критика отразила крайне настороженное отношение академического православия к субъективному идеализму, который оно обвиняло в обезличивании Божества[252] и умственной гордыне.
* * *Сходные упреки естественно было бы адресовать и Погодину, по мнению которого историк угадывает и воссоздает в самом себе волю Провидения, управляющего жизнью человечества. В «Исторических афоризмах» он адаптировал демиургический импульс к античному мифу, облюбованному многими романтиками: «Прошедшее человечества в отношении к историку есть материя, в которую он, как Пигмалион, вдыхает свою душу»[253], – так же именно, как у Шевырева новый поэт «одушевляет» увиденный им мир своей мыслью.
Впрочем, историю можно постигнуть и изнутри – причем в этих своих сентенциях Погодин почти конфузно совпадает с антифилософскими выпадами БдЧ («Для познания истины стоит лишь углубиться в это Я и выслушать его откровения»). Речь у него идет о некоем согласовании истории с интеллектуальной интуицией самого историка, который как бы развертывает летопись мира из своего духовного ядра – из недр божественного начала, таящегося в его личности. При всем различии стилей и самого предмета от тех, что представлены были в гоголевском «Борисе Годунове», тон задает точно такая же пиетистско-романтическая интериоризация сакрального источника, только поставленная на службу тенденциозной историософии[254].
Хотя сам Погодин был усерднейшим накопителем исторических реалий, в своей вступительной профессорской лекции, прочитанной им в Московском университете (и включенной потом в качестве приложения в «Исторические афоризмы»), он отдал безоговорочное предпочтение внутреннему зову перед суетной фактографией. Образцовый историк, согласно Погодину, должен пройти нечто вроде исихастского трезвения ума, дабы сподобиться духовного видения, оно же – постижение истории. «Очистив чувствия, вознесясь духом», ученый сможет «созерцать и предугадывать законы внешние»: «Вот когда вы узнаете или, лучше, прочувствуете Историю. Да, мм. гг., ни в какой книге, ни в какой библиотеке, ни в каком университете, ни от какого профессора нельзя узнать ее так, как во глубине души своей. Там только она воспроизводится, по крайней мере, подобие ее полное, совершенное, возможное на земле»[255].
Лектор на сей раз следует, несомненно, за Эдгаром Кине, который писал: «Все памятники останутся бессильными и немыми, если не согласишься погрузиться в самого себя вполне и откровенно. Это уже не та история, которую каждый может прочесть в сочинениях людей, или в камнях, или на земле, но та, которая отражена и начертана в глубине нашей души, и всякий, кто внимательно прислушается к своим внутренним движениям, найдет всю чреду веков погребенной в своем сознании»[256]. Но для нашей темы занимательнее легкий смысловой сдвиг, просквозивший у Погодина и роднящий его тираду с отмеченной выше обмолвкой В. Одоевского и М. Павлова, которые вместо «построения» теории вещества предпочитали упоминать о построении самого вещества.
У Погодина этот демиургический оттенок, подменяющий объективное изучение предмета его субъективным созданием[257], заметен там, где он странным образом колеблется между прямым «воспроизведением» самой истории – или все же только ее отражением («полным подобием») в душе историка. В подобном смешении субъекта с объектом вновь проглядывает смутная память об их тождестве, свойственном абсолюту, олицетворением которого становится здесь – как, впрочем, и у Кине или его учителя Кузена – ученый, одержимый эросом познания. О том, что у Погодина это вовсе не какая-то случайная обмолвка, свидетельствуют и некоторые из его «исторических афоризмов» – такой, например, датируемый еще 1827 г.: «Чем больше будет развиваться человечество, тем деяния его будут яснее, простее, и наконец, историею будет самое настоящее время, т. е. человек будет вместе и действовать и знать свои действия, или, лучше, уже не будет истории. Так тело падает к центру с увеличивающейся скоростью»[258]. И, развивая затем эту мысль, автор возвещает (цитирую по публикации 1836 г.): «Может быть, один человек во всем мире (плод всего мира), шествуя путем Христовым, с чистым сердцем, благою волею, уразумеет историю в какой-нибудь краткой формуле, достигнет самопознания и поймет: я есмь, во всем смысле… и круг истории, от вкушения плода Адамова, заключится»[259].
Формула эта, хоть и украшенная «путем Христовым», примечательно совпадает с высказываниями эклектика Виктора Кузена, который в своей системе склеил шеллинговскую философию тождества с гегелевским самопознанием мирового духа, а последнее – с каббалистическим представлением об Адаме Кадмоне, объявшем собой весь мир или же изоморфном этому миру. В статье о Платоне, опубликованной в том же 1827 г., что и первый из вышеприведенных «афоризмов», Кузен заявил: «Подлинная философия – в том, чтобы заключить в себе и в собственном развитии всю мысль человека и ее развитие. Представить всю мысль – значит заключить в себе все человечество, сущность которого есть мысль… В таком случае человек этот заключит все в своей личности… он будет всем и останется индивидуумом; он будет само бытие и, кроме того, сознание этого бытия, иначе говоря, он воистину замкнет круг бытия»[260]. Так же, как у Кузена, сознание у Погодина отождествится с бытием; процессуальность иссякнет, времени больше не будет, и логос, творивший историю, вернется к самому себе, в обетованную землю абсолюта.
На страницах литературного альманаха Погодин высказал новые академические амбиции с впечатляющей откровенностью и размахом, и эти его рассуждения, подобно пророчествам Одоевского в «Мнемозине», любопытным образом перекликаются с «магическим идеализмом» Новалиса (который вроде бы практически был неизвестен в тогдашней России[261]), а также с каббалистическим образом Адама Кадмона. В заметке «Нечто о науке», вышедшей в СЦ на 1832 г., Погодин писал: