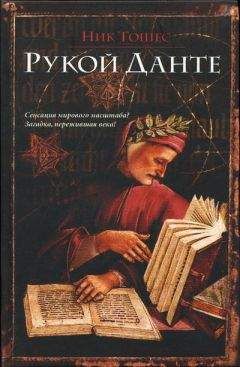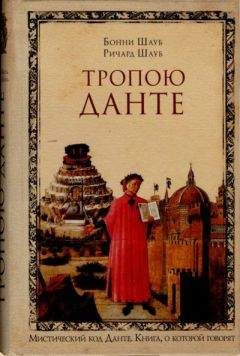Дмитрий Мережковский - Данте
Когда говорил Данте бог Любви:
Наш род — от вечного гранита,
Noi, che semo dell'eterna rocca, —
и когда благословлял он изгнание свое, — он знал, что «ему позавидуют некогда лучшие люди в мире».
О если б я был им!
С такою силой духа,
Как у него, — за горькое изгнанье,
За все его бесчисленные муки,
Я отдал бы счастливейший удел!
скажет великий о величайшем, Микель Анжело — о Данте.[416]
Вот почему тебя я надо всеми
Короною и митрою венчаю, —
скажет Виргинии, на вершине «святой горы Очищения»: Данте будет увенчан короною, выше всех царей, и митрою — выше всех пап — это он знал наверное. Вот каким сокровищем владел он, в нищете, и какою славою — в позоре.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царство небесное. (Мт. 5, 10).
Всех изгнанных за правду, бездомных и нищих скитальцев, всех презренных людьми и отверженных, всех настоящего Града не имеющих и грядущего Града ищущих вечный покровитель — Данте-Изгнанник.
XV. ДАНТЕ И КЕСАРЬ
В 1308 году избран был в императоры Священной Римской Империи, под именем Генриха VII, маленький германский владетельный граф, Генрих Люксембургский. В следующем году послы его, прибыв в Авиньон, ко двору папы Климента V, возвестили ему, что государь их желает принять корону Кесаря из рук Его Святейшества, в Риме. Папа согласился на это и объявил нового императора в торжественной энциклике Exultat in gloria[417] избранником Божиим, посланным для того, чтобы установить мир всего мира.[418]
«Генрих был человек великого сердца… мудрый, благочестивый… и праведный; был доблестный воин», — вспоминает летописец, Дж. Виллани,[419] — «Богу Всемогущему угодно было пришествие Генриха в Италию для того, чтобы совершилась в ней казнь всех тиранов… и чтобы самовластие их было навсегда уничтожено», — вспоминает и другой летописец, Дино Кампаньи.[420] Вот почему, по свидетельству Виллани, «не только западные, но и восточные христиане, и даже неверные следили за походом Генриха с таким вниманием, что можно сказать: не было в те дни события, равного этому».[421]
Мир, затаив дыхание, ждал от нового императора, «посланника Божия», торжества человеческой совести там, где она всегда бывает поругана больше всего — в делах государственных. «Скажет праведник: есть Бог, судящий на земле» (Пс. 57, 12), — на это надеялись от Генриха все лучшие люди; но, может быть, никто не надеялся так, как Данте.
О, Господи, когда же, наконец,
Увижу я Твое святое мщенье?[422]
На этот вопрос его как будто отвечал ему мститель Божий, император Генрих: «Сейчас увидишь».
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко… ибо видели очи мои спасение Твое (Лк. 2, 29–30), —
мог бы сказать Данте, вместе с другом своим, поэтом Чино да Пистойя.[423]
В эти дни Данте испытывал, может быть, чувство, подобное тому, какое испытает, выйдя из Ада, «чтоб вновь увидеть звезды».[424]
Когда из мертвенного воздуха я вышел,
печалившего сердце мне и очи,
то усладил их, разлитой по небу
прозрачному до высшей сферы звезд,
нежнейший свет восточного сапфира.[425]
В 1311 году, в самом начале похода, пишет он такое же торжественное послание «ко всем государям земли», как двадцать лет назад, по смерти Беатриче. Но то было вестью великой скорби, а это — великой радости.
«Всем государям Италии… Данте Алагерий, флорентийский невинный изгнанник… Ныне солнце восходит над миром… Ныне все алчущие и жаждущие правды насытятся… Радуйся же, Италия несчастная… ибо жених твой грядет… Генрих, Божественный Август и Кесарь… Слезы твои осуши… близок твой избавитель».[426]
Может быть казалось Данте, что в эти дни готово исполниться услышанное им в видении пророчество бога Любви тем трем Прекрасным Дамам, таким же, как он, нищим и презренным людьми, вечным изгнанницам:
Любовь сказала: «Подымите лица,
Мужайтесь: вот оружье наше…
Наступит час, когда, в святом бою,
Над миром вновь заблещут эти копья!»
Слишком настрадавшиеся люди легко обманываются ложными надеждами: так обманулся и Данте надеждой на Генриха; принял мечту за действительность, облака — за горы, марево воды — за настоящую воду.
Генрих и Данте близки друг другу хотя и очень глубокою, но не последнею близостью. Та же у обоих «прямота», drittura, по слову Данте, — как бы одна, идущая от души человеческой к миру и к Богу, геометрически прямая линия правды, противоположная всем кривым линиям лжи. Оба — «люди доброй воли», — те, о ком Ангелы пели над колыбелью Спасителя:
Мир на земле, в людях доброй воли.
Pax in hominibus bonae voluntatis.
Оба — высокие жертвы человеческой низости. Главная же близость их, может быть, в том, что оба — люди не своего времени. Но здесь начинается и то, что их разделяет: Данте — человек далекого будущего, а Генрих — близкого прошлого; тот родился на тридцать-сорок веков раньше, а этот — на три-четрые века позже, чем следует. Римская Священная Империя Генриха отделена от Монархии Данте тем же, чем прошлое отделено от будущего, и непохороненный покойник — от нерожденного младенца.
Генрих, «человек великого сердца», почти святой, отдает жизнь свою за обреченное дело, потому что, после Фридриха II Барбароссы, самая идея Священной Римской Империи почти погасла в умах. В 1264 году, за год до рождения Данте, когда «белокурый красавец» Манфред Гогенштауфен пал в бою под Беневентом, сражаясь с королем Карлом Анжуйским, — Священная Римская Империя кончилась.[427] Мир шел, может быть, роковым для него и пагубным, но исторически неизбежным, путем, от всемирного бытия к народному, или, как мы говорим, «национальному», — от насильственного единства к свободному множеству и разделению народов.
Если Генрих — еще не Дон Кихот, то уже один из последних рыцарей и первых романтиков. Вечный спутник их, демон отвлеченности, искажает все его дела, или поражает их бесплодием. С лучшими намерениями делает он зло: желая восстановить порядок в занятых им областях Италии, только увеличивает хаос; сеет мир и пожинает войну.
Осенью 1310 года, спустившись с Альп в Ломбардию, с маленьким пятитысячным войском, новый император, в победоносном шествии, идет из города в город, «всюду устанавливая мир, как Ангел Божий», — вспоминает Дино Кампаньи.[428] — В день Богоявления, 6 января 1311 года, Генрих венчается в Милане железной короной ломбардских королей.
Данте видел Генриха, вероятно, в январе 1311 года, в Милане, вскоре после венчания. Царственного не было ничего в наружности этого сорокалетнего человека, небольшого роста, с голым черепом, с тихим, простым и печальным лицом. Легкая косина одного глаза придавала ему иногда, как это часто бывает при косине, выражение беспокойное и тягостное, почти зловещее; точно искажавший все дела его, насмешливый «демон отвлеченности» исказил и лицо его: «прямое сердце — косое око».[429]
Данте, по обычаю всех допущенных пред лицом императора, стоя на коленях и низко опустив лицо к ступеням трона, обнял и поцеловал ноги «Святейшего Августа». Дважды целовал он ноги человеку: в первый раз тому, кого больше всех ненавидел, — папе Бонифацию VIII; во второй — тому, кого, после Беатриче, больше всех любил, — императору Генриху; двум носителям высших властей, небесной и земной.
Кажется, в письме Данте к императору, писанном в том же году, месяца через два, есть намек на то, что он чувствовал при этом целовании: «Видел я и слышал тебя, Всемилостивейший… и обнимал ноги твои и уста мои исполнили свой долг. И возрадовался дух мой, и сказал я себе: „Вот Агнец Божий, взявший на себя грех мира“».[430]
Лестью и кощунством могли бы казаться эти слова в устах всякого человека, кроме Данте, потому что никто не способен был меньше, чем он, к лести и кощунству. Что же они значат? Кажется, он хочет и не может выразить в них то, что тогда почувствовал в Генрихе, увидев, как бы в мгновенном прозрении, всю его грядущую судьбу — не золотым венцом венчаться в победе, а терновым — в страдании; быть обреченной на заклание жертвой — одним из многих агнцев Божиих, идущих за Единственным. И это увидев, он полюбил его еще больше, потому что в его судьбе узнал свою.
Данте узнал Генриха, но тот не узнал его, самого близкого и нужного ему человека, единственного в мире, который понял его и полюбил.
Слишком чист был сердцем Генрих для такого нечистого дела, как политика. В самом начале похода делает он роковую ошибку. Множество изгнанников, большей частью Гибеллинов, приверженцев императорской власти, изгнанных ее врагами. Гвельфами, и собравшихся из всех городов Верхней Италии, ищет в нем опоры и защиты, но не находит: он объявляет торжественно, что не хочет знать ни Гибеллинов, ни Гвельфов, потому что пришел в Италию не для вражды, а для мира. Но этого не поняли ни те, ни другие. Вместо того чтоб их примирить, он только ожесточил их друг против друга и восстановил против себя; Гвельфы считают его Гибеллином, а Гибеллины — Гвельфом. Стоя между двух огней, он топчет их оба, но не гасит; старую болезнь итальянских междуусобий загоняет внутрь, но не лечит; делается пастухом волчьего стада, не предвидя, что волки съедят пастуха.