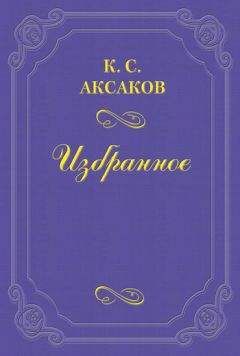Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее
Каждая из этих трех форм обращения с историей оказывала длительное воздействие на литературу Швейцарии. Монументалистский подход долгое время доминировал. В соединении с антикварным подходом он великолепно расцвел в творчестве Готфрида Келлера. (Я предполагаю, что за созданным Ницше трогательным описанием «антикварного человека»[78] кроется портрет Готфрида Келлера.) Наконец, критический подход восходит к тому же Келлеру и Готхельфу. Этот подход сделался более изощренным у Рамю, который если и мог еще находить монументальное, то только в региональном, и потому изъял своего трагического Телля — Фарине, героя одноименного романа 1932 года, — из общешвейцарского контекста. Однако подлинно эпохальным феноменом критическое отношение к собственной истории, о котором говорил Ницше, стало в швейцарской литературе лишь после Второй мировой войны, вылившись в течение «критического патриотизма»[79]. Это течение началось практически сразу после окончания войны. После 1968 года оно настолько усилилось, что какое-то время казалось, будто в литературе Швейцарии остались лишь пишущие судьи. Столь триумфально вершился по всей стране этот суд, что люди забыли предостережение Ницше: «В качестве судей вы должны стоять выше того, кого вы судите, тогда как, в сущности, вы лишь явились позже на историческую арену»[80].
Этот суд, чинимый писателями, всегда был еще и судом над той литературой, которая отличалась монументалистским подходом к швейцарской истории. В результате распространилось такое представление о литературе, которое вообще допускало только критическое обращение с историей. В период между 1945 и 1989 годами это соответствовало политической необходимости, но вместе с тем побуждало людей закрывать глаза на тот факт, что в период 1933–1945 годов монументалистский подход к истории тоже соответствовал тогдашней политической необходимости.
Борьба между поборниками этих трех подходов в конце концов исчерпала себя. Человек, который сегодня еще продолжает бороться против монументалистских элементов Национальной выставки 1939 года, — просто дурак. Если прежде главной темой швейцарской литературы была история нашей страны, то в последнее время такой темой стала семейная история. Самые успешные книги Томаса Хюрлимана, Урса Видмера, Шарля Левински и Кристиана Галлера относятся именно к этому тематическому кругу. Упомянутые авторы — если воспользоваться терминологией Ницше — пишут преимущественно в антикварном ключе, но с критическими вкраплениями, касающимися политической истории. Прообразом их произведений — событием в подлинном смысле переходным — может считаться роман Отто Ф. Вальтера «Время фазана» (1988): произведение, композиция которого, можно сказать, представляет собой акробатическую фигуру шпагата, соединяющую эстетику критического патриотизма с новым швейцарским семейным романом.
Для литературоведения, как и для литературы, традиционная политическая мифология Швейцарии становится все менее интересной. Дискурс о сражениях[81], который в швейцарской литературе долгое время играл чрезвычайно важную роль, с точки зрения нынешних германистов является скорее курьезом: если он и привлекает чье-то внимание, то лишь в связи с такими таинственными текстами как «Битва при Земпахе» (1905)[82] Роберта Вальзера. В публичных политических дискуссиях элементы старой мифологии хотя и продолжают играть пропагандистскую роль у изоляционистских партий, но используются в основном как стереотипные воспроизведения традиционных моделей, а не как исполненные жизненной силы новые образы. Полная отчужденность от политики национальной швейцарской выставки «Ехро-02» была иронически подчеркнута тем, что архитектор Жан Нувель[83] пустил плавать по Муртенскому озеру особого рода выставочный комплекс — ржавый куб, внутри которого была устроена выполненная в старинном духе панорама Муртенской битвы. Эта гигантская картина воздействовала на зрителей не как сигнал для идентификации, то есть не в монументалистском ключе, а как постмодернистская цитата из давно исчерпавшего себя дискурса о сражениях, помещенная в контекст эзотерической инсталляции.
Новый подход к национальным мотивамКак бы сильно литературная традиция немецкоязычной Швейцарии ни была с самого начала окрашена политической мифологией и дискурсом о сражениях (подобно тому как литература немецкого классицизма окрашена мифом о возрождении Древней Греции на немецкой земле), эту традицию в целом все-таки невозможно понять, исходя только из повествований, образов и знаков такого рода. О чем свидетельствует уже тот факт, что упадок героической политической мифологии отнюдь не поставил под угрозу литературную традицию нашей страны и не привел к ее переоценке. Теперь все с большей очевидностью выходят на первый план определенные темы и мотивы, которые (хотя они встречаются и в других национальных литературах) обретают специфическую выразительность именно в литературной традиции Швейцарии. Я не имею в виду ту многократно обсуждавшуюся «особую сущность» швейцарской литературы, которая, подобно лохнесскому чудовищу, «несомненно» хотя бы раз в год выныривает на поверхность и о которой с той же несомненностью, что и об этом чудище, можно сказать, что вообще-то ее не существует. Я имею в виду интересные с точки зрения истории менталитета тематические тенденции в швейцарской литературе. А они могут говорить нам о чем-то только тогда, когда изучаются в плане своего конкретного содержания.
Классический пример тому — роман о возвращении, пьеса о возвращении, стихотворение о возвращении с характерным для всех них мотивом размышления на границе[84]. Этот мотив вовсе не возникает впервые в таких знаменитых романах, как «Крестьянское зерцало» (1837) Иеремии Готхельфа и «Зеленый Генрих» (1853–1855) Готфрида Келлера; он появляется еще у гуманиста Глареана[85], который в 1514 году написал большую поэму о возвращении на родину[86]. Как бы откликаясь на нее, Иоганн Гауденц Залис-Зевис[87] в 1785 году, находясь в Париже, написал «Элегию моей родине» — грандиозное видение о бегстве из этого столичного города на родину. Конечно, «литература возвращения» существует во всем мире; никто и не собирается говорить о монополии Швейцарии на эту тематику. Однако очень стоило бы проанализировать своеобразие мышления о Швейцарии, отразившегося именно в швейцарских образцах такой литературы, и посмотреть, как оно менялось от эпохи к эпохе. У Генриха Лойтхольда[88], например, в «Цюрихском озере» (1872), стихотворении о возвращении, подход к тому, что он изображает, уже не монументалистский, а критический и не лишенный горечи. Художник, говорится в конце стихотворения, ничего хорошего от своей родины не дождется:
…не выпускай из рук посох странника!
Земля отечества не станет кормить певца…
Пусть перелетные птицы тебя проводят
Чрез эти горы в иные, далекие зоны![89]
Мотивы такого рода — не мифы, хотя и могут порой содержать мифический материал. Это литературные сюжетные формулы, и их притягательность для авторов связана с тем, что они позволяют представить теоретические рассуждения о Швейцарии в драматичной форме.
Виновное сообщество: ГотхельфЕще один мотив, столь же значимый для швейцарской литературы, что и мотив возвращения, это мотив действующего коллектива, точнее: коллектива, действующего с сознанием своей вины, виновного сообщества. Это интересно уже потому, что литература, как правило, нуждается в действующем индивиде — персонаже мужского или женского пола. Виновный герой, в его одиночестве, образует средоточие любой трагедии. Виновный же коллектив, мне думается, в литературе, собственно, вообще не представлен — или, разве что, представлен как фон для яркой личности. Именно так, как двусмысленный фон для отдельных выдающихся личностей, представлена народная масса, например, в «Кориолане» и «Юлии Цезаре» Шекспира, а масса глупых обывателей — в «Истории абдеритов» (1774) Виланда и в сказке Вильгельма Гауфа «Обезьяна в роли человека» (1830).
Однако в литературе Швейцарии со времени Иеремии Готхельфа начинается удивительная традиция беспощадного анализа ошибок в коллективном поведении членов общины. Хотя каждый человек понимает, что косвенным образом способствует ухудшению положения бедных и аутсайдеров, он — поскольку другие члены общины этому не препятствуют — позволяет произойти такому несчастью или даже содействует ему. Самый яркий пример (кто же этого не знает?) — изображение крестьян из Сумисвальда в новелле Готхельфа «Черный паук» (1842). В этой новелле, конечно, есть протагонисты, и прежде всего главный женский персонаж, Кристина из Линдау, которая осмеливается заключить договор с дьяволом. Но подобно тому, как действие новеллы достигает кульминации в коллективной катастрофе — гибели чуть ли не всех жителей деревни от чумы, воплощенной в пауке, — так же и глубинной причиной этого несчастья является не преступление одной-единственной женщины, а совместное прегрешение крестьян. Они понимают, что делают, но не желают этого знать и находят себе оправдания, чтобы, вопреки угрызениям совести, все-таки осуществить задуманное. Изображение этих изощренных механизмов самотерапии, направленной на то, чтобы заглушить острое чувство своей вины, как раз и превращает новеллу в социально-психологическое событие. История же Кристины, хоть и богата повествовательными эффектами, слишком грубо обыгрывает расхожее представление о женщине как вратах, через которые приходит зло, то есть топос Евы, чтобы угодить современному читателю чем-то еще, помимо этих эффектов. Гораздо более жуткое впечатление, чем элементы фантастики (а Готхельф был и остается единственным подлинным фантастом в швейцарской литературе, просто до сих пор на это не обращали внимания), производят описания психологических процессов коллективного подавления чувства собственной вины и «перемещения» вины на других.