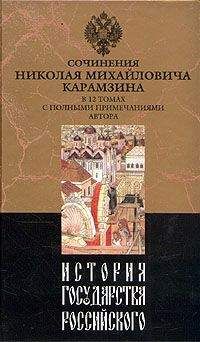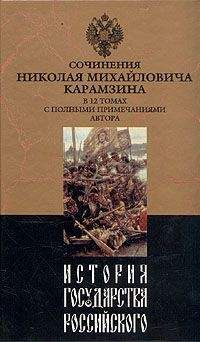Михаил Фонотов - Каменный пояс, 1987
Дренаж замучил нас. В траншее стоит моренная квашня. Один сапог у меня порван, и нога постоянно мокра. Уж я его проволочкой, проволочкой укручивал, сапог этот… Нынче благовещенье. Вспоминаю чьи-то уверенные слова: «Каков будет день в благовещенье, такое и лето…»
И весь этот день у нас не прекращаются азартные вначале, а потом уже и усталые, надоевшие всем споры. До хрипоты крик. Спорящие стороны составили Жуков, слесарек, по прозвищу Поляк, и я. За мной тоже что-то вроде прозвища закрепилось: называют меня с намекающей усмешкой Подпольным оратором. Подпольным — потому что внизу я, в траншее, а Жуков с Поляком — наверху, на второй перекидке…
Надоевшие, говорю, пожалуй, неправ я! Споры наши увлекают всех, работающих поблизости. Вижу, как тянутся к нам, у людей блестят глаза. А споры — о справедливости, заработной плате, коммунизме, войне, Америке, профсоюзах, перемене места жительства, прописках, свободе и несвободе… Вот — деньги: кто-то закрыл наряд за двенадцать дней на сорок два рубля с копейками. И это строителю!.. «Да, это уж действительно…» — повторяют слушатели с лопатами, с отбойными молотками, с ломами в руках. Солидарность полная.
— Получить бы пусковые за третий агрегат, — невпопад мечтает кто-то, — сейчас бы мы…
— Да, сейчас бы тебя только и видели!
— Везде хорошо, где нас нет, — начинает мужичошка растелепистый, с широким лицом, с мешками улыбающихся глаз. Известен он тем, что жена от него сбежала.
— Точно! — зло кричит ему, не давая продолжить, Поляк. — Везде, Вася, хорошо, где тебя нет!..
А тому и отвечать нечего, жмурится только да лыбится.
«Но Поляк — зол, — говорю я, спорю сам с собой. — А Вася?..»
Вдруг задождило, занавесило частой сеткой белый свет. Неутихающий ни на минутку дождь. А мы гатим ветками да всяческим мелким подростом развороченные колеи дороги для строящейся линии электропередачи. Просто откуда-то прозвучало: «ЛЭП… дорога… ЛЭП…» И чья-то сила послала нас — принудила, увлекла.
Происходит все это в лесу, в виду недалекого Беломорканала. Вода сейчас там спущена; подойдешь ближе — виднеется край канала, обрывающийся, как представится, в пустоту, а на самом деле — в стремительно оседающие под дождем лед со снегом; на той стороне его — такой же лес либо луговая поскотина с вытаявшими кочками.
А у нас топоры — на все про все. И измокли мы до костей. И окружают нас озерца, которым мы не рады, болота да гривы. А на озерцах и болотах — вспухшие льды, проступающая неостановимо-темная, пьяная вода; на гривах — захмуревший, замглившийся сейчас лес. И все мякнет, грозится, тает, все пришло в мрачное, сильно выраженное движение.
Нам помогает бульдозер — или мы помогаем бульдозеру? Что-то он, порычав, заглох, стоит где-то себе за мокрым-мокрехонькими и сыплющими тяжкие обвалы воды, коли затронешь их, елками. И бульдозериста, цыгановатого Димки, не слыхать. Уснул, что ли, у себя в кабинке?
А мы поработали, пока задор был, бродя с топорами по чащобе и мелколесью, оставляя за собой расплывающиеся на снегу следы, мелкие, слабые порубки. Но дело сделано.
Как смогли, запалили костер. И пока горит он, шатко, ненадежно горит, одежда наша парит, но не просыхает. Дым от костра накрывает нас шапкой, никуда не уходит, — пригнетают его низкие, цепляющиеся за вершины елок облака, вернее, облачная муть.
Рассказал приткнувшимся у костра, что нашел сейчас в лесу колючую проволоку, закрепленную по деревьям, ржавую проволоку, которой поначалу испугался: почудилось за ней нечто, чего необходимо бояться, — иные дни, призраки людей, не сами люди.
— Старая проволока? — переспросил Жуков, подняв лицо напротив меня, через костер, и вглядываясь сквозь огонь, густо летящие искры, судорожно поваливающий дым. — Если старая, то уж, точно говорю, от тех времен осталась…
И начался у нас общий разговор откровенный, хотя нет-нет да и с оглядкой на стоящий вокруг в сырой мгле лес, точно нас мог подслушать кто-то — уж не из той ли массы людей, что когда-то жили здесь в землянках при стройке своей, при канале!… И чье дыхание, чей взгляд мы словно могли слышать, чувствовать… за толщей времени… за толщей… Разговор этот был долгий, в ожидании машин, которые должны были пройти — а все не шли! — и которых мы должны были обеспечить дорогой проходимой, верной.
Так что пошли потом речи по иному кругу: о волках, медведях, о глухоманной, заманной здешней стороне. И о жеребце Зоряне, охранявшем табун рыбацких лошадей; и о том, как медведь вспрыгнул на спину лошади, о безумной скачке ее с медведем на спине через кладбище, о выдранном медведем кресте; о том, как влетела лошадь в село. («Ты представь, представь медведя-то с крестом — верхом!») И как женщины с испугу по огородам, по огородам («А иные на карачках, ах-ха-ха-а!»)..
Уже вместе с дождем посыпал липкий снег, и погас костер, уже мы не просто промокли, а вода давно струилась по нашим хребтам, когда заворчало за деревьями — там ожил бульдозер; послышался посторонний гул — пошли тяжелые машины; и фары шарили то близко, то далеко, выхватывали наши онемевшие, ослепшие на миг лица. А моментами и несчастные лица!
И назавтра были дорога, болота, лес, топоры, трелевка лесин вручную, машины, надрывавшиеся в непроезжих колеях. И тут же канал, зона затопления, старые баржи, затянутые, заплывшие песком да моренной глинкой.
Нашел я в те дни в голубоватом слое грунта — бездушного грунта! — на некоей глубине штыковую лопату, источенную ржавчиной многих десятилетий, непомерно громоздкую. И долго после помнил, что и как думал при этом, как прикасался к железу, взвешивал в руках его тяжесть и, отбрасывая, прощался с ним.
Смерть надо еще заслужитьОткрой форточку и услышишь голос человека на поселковой улице, отражаемый от стен, звучащий с усилением и глубиной, низкий и сильный голос. Рядом с ним — детский, вторящий ему. В соседстве этих двух голосов, в двуединстве их — вся глубина апрельской ночи. Не Чернопятов ли это с кем-то из Казачкиных мальчишек?
Если Чернопятов, то — «Что же ты, Чернопятов?» — слова эти вместе со мной готова, кажется, прокричать и сама апрельская ночь!.. О Казачке Нине мы промолчим вместе с ночью…
Висел сегодня на монтажном поясе над ревущей, смертной, если сорвешься, водой; ноги — на площадке в две человеческие ступни, только и уместились. А ведь надо еще и работу работать! И вот то грудью, то животом давишь, давишь на отбойный молоток, вывесив себя на цепи страховочной, вырубаешь дикое мясо лишнего бетона. Кто-то ошибся, а уж ты ошибиться не должен. Это и называется опасной работой.
Подошел бригадир Лешка Голованов — поверху. Поглядел, покраснел и вспотел даже: забеспокоился.
— Смотри, Люляев! Пояс хорошо держит?
— Должен держать.
— Должен-то должен… Ты одной-то рукой страхуйся вот здесь, страхуйся!
Если так, как он советует, за верх бетонный придерживаться, то ничего толком не вырубишь. Придется уж по-своему, как приладился.
Все же, пока бригадир стоит над душой, больше вперехват руками работаешь, дотягиваешься: тоже надо и бригадира уважить. Ведь и Голованов тебе дурного не посоветует, если разобраться. Хоть он и не ровня Артюшину, например. У того — удачливость, бойкость.
Бетон подается скупо, но все же подается. Опасность веселит сердце — это не придумано. «Вот, — думаешь, — погибельное дело. И куда сунулся, куда? Ан ничего, обопремся, да хоть бы и о самый воздух, осилим!» Игра духа над бездной. И вся жизнь твоя кажется в этот миг тебе, как вот звенья монтажной цепи. И чья-то жизнь от твоей зависит.
А было у тебя так, что ни от чего иного твоя жизнь не зависела, как единственно от благорасположения случая, принявшего обличье человека с ножом… Их явилось тогда перед тобой в полутьме ржевской привокзальной, возле железнодорожного клуба, человек шесть-семь. Главарь, высокий, статный, выступив из полукольца отрезавших тебе путь, ударил с подседа, снизу — ударил ножом в живот. Ты стоял перед ними беззащитным, руки в карманы плаща… Нож прошел между пальцами, прошив только кожу. Только кожу да всю одежду. Повезло тебе, смерти ты еще не заслужил. Ее, косую, тоже надо заслужить.
…На то место, где я у п и р а л с я, краном уложили балку.
Но заслужил ли ты жизнь?
Слушаю ночь. Труба запела в отдалении, сразу взяла чисто, стала поднимать выше и выше. Мучительно-знакома мелодия. Одинока в ночи труба. Кто же это? Неужели молодой Хомченко? И он играет для меня? Хомченко обещал это сделать, а я не поверил, хотя голос внутри твердил: «Он тебе правду теперь говорит».
— Хочешь, я сыграю для тебя? — говорил Хомченко, и на лице его бродил неуверенный свет. — Стройка к концу идет, уедешь ты… Скучно без тебя здесь будет! И вот я в честь тебя сыграю — приду попозже.
Слова эти были прекрасны сами по себе. И не возгордился я ни на минуту, а горячо благодарил всех, с кем довелось вместе жизнь делить, в себе благодарил — правых и неправых, счастливых и несчастных, удачливых и заведомых неудачников. И бригаду: Ивана Козлова, Зенкевича, Алексея Карпова, бригадира Голованова, Славку Смелко, Гришу с вечно разбитым носом — Пиболдика, Саньку Композитора, малого Евтифеева, Мишку Настина, молодого Хомченко, Андрея Хохла с братом, Веру и Валю, Митю-с-медалью, Валентина Недомерка, Копченого, Капустина, Кольку Бондаря, двоих Свояков, деда Савкина, Пименова…