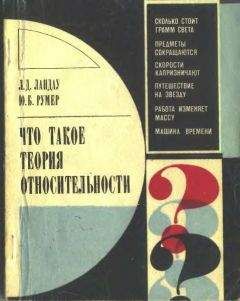Юрий Барбой - К теории театра
Чехов не пошел с Вахтанговым, но и от Станиславского он взял здесь только богатую свойствами пластическую индивидуальность актера. Взял не для того, чтобы подменить, а чтобы срастить. Чехов вернул направлению Станиславского полноценную индивидуальность Роли, которая была для актера не Я, а — Он.
То, что мы называем системой сценического образа, Чехов представлял себе совершенно определенно и объяснял даже терминологически безупречно: «Работая над ролью, вы совершаете два процесса: с одной стороны, вы приспосабливаете образ роли к себе, с другой — себя к образу роли. Так вы сближаетесь с ним. И хотя есть предел, за который вы не можете перейти (ваши внутренние и внешние актерские данные определяют этот предел), вы все же можете достичь многого, если будете применять правильные средства».[44] Очевидно, что роль — не Я и мною быть не может. Но что же она такое в этом сложном образовании?
«Нет нехарактерных ролей, как нет двух внешне и внутренне одинаковых людей»[45], - и утверждение и мотивировка буквально списаны у Станиславского. Но из этого постулата Чехов выводит следствие воистину неожиданное и для нашей темы чрезвычайно значащее: «Необходимо провести грань между различными типами людей и индивидуальными характерами внутри этих типов. Они никогда не бывают одинаковыми, никогда не повторяются. Они всегда разные. Одни, например, имеют склонность всегда играть один тип: задиристого парня, соблазнительную героиню, рассеянного ученого, стервозную женщину или неотразимую молодую девицу с длинными-предлинными ресницами и слегка приоткрытым ртом и т. д. Все это — типы характеров. Но каждый отдельно взятый задиристый парень или каждая стервозная женщина — это различные вариации внутри этих типов. Каждый из них — индивидуальность, которая должна быть осмыслена и сыграна по-своему. Так возникает проблема создания сценической характерности». Пока все «в пределах Станиславского» (включая и склонность актеров играть типы, которая так не устраивала учителя). Но вот прямое продолжение этого пассажа: «Другими словами, типы, которые мы играем, идут от нашей натуры, любой же индивидуальный характер мы получаем от драматурга»[46].
Право же, ничто в мысли Чехова не предвещало, что типы характеров идут от натуры актера. Во всяком случае, это требовало комментария. Сам Чехов, однако, уверен, что всего лишь повторил уже сказанное «другими словами». По-видимому, это для него вещь сама собой разумеющаяся. Но если так, согласно его логике, роль, чуть не как у классицистов, составляется из двух больших частей, типа и его индивидуальной вариации, но только части эти происходят из разных источников. Индивидуальный характер всякий раз для актера нов, потому что сочиняется драматургом, а вот тип роли дается завершенному образу «натурой актера», то есть его «внутренними и внешними актерскими данными». Стало быть, в своем воображении (Чехов предпочитал говорить — в фантазии) актер должен воссоздать характер, данный пьесой, и именно его начать приспосабливать к себе-типу.
Оказывается, Чехов, во-первых, подменил типовое в амплуа актера его, актера, человеческим типом, то есть, другими словами, по-своему интерпретировал и «приспособил» непреложное желание Станиславского использовать человеческие свойства актера. Во-вторых, этот новый элемент актерской «половины» сценического образа сам по себе оказался тесно сращен с заведомо вне актера существующим характером.
Система сценического образа снова мутировала, но и этот ее оригинальный вариант не подтвердил — утвердил! — закономерности эволюции театрального образа и тенденции развития его структуры.
Как и все сценические и шире — театральные системы, созданные в первой трети — середине ХХ века, чеховская, оставаясь «именной», могла в течение века разворачиваться и разворачивалась разными своими сторонами, независимо от того, понимали мы это или нет, могли правильно указать источник или путали фамилии основоположников.
Среди тенденций, особенно с шестидесятых годов ставших популярными и плодотворными, и в русском и в западноевропейском театре было недолгое, но яркое явление тех свойств актера, которые тогда обобщенно называли личностным началом. В нашей литературе его ближайшие исторические истоки пытались обнаружить и в театральной системе Вахтангова и в идеях Станиславского. И то и другое, понятно, было не всуе, однако личностные порядки вахтанговского актера все же естественней связывать с пафосом игры и творчества, чем с исповедальной или проповеднической гражданственностью, которая и вывела на сцену «личностное начало». Что касается Станиславского, то если понимать тогдашнюю тенденцию широко и не «терминологично» (а так оно и было), то есть не различать личностное и индивидуальностное, было более чем справедливо вспомнить, что именно он, и никто другой с такой глубиной и последовательностью утверждал, что жизнь человеческого духа на сцене можно создать только силами человеческой души актера. Михаил Чехов, не только по цензурным соображениям, в связи с этой знаменательной тенденций эпохи, кажется, вовсе не упоминался.
Сильная во всех отношениях театральная мысль шестидесятников не различала личность и индивидуальность у Станиславского и его современников просто потому, что поначалу сам театр не давал для этого оснований. Рождение и временное торжество в искусстве «нашего непростого советского человека» было настолько исторически знаменательно, что как раз пафос индивидуальности по праву поглотил и личность и тем более тип. Между тем, на сцене по меньшей мере полутора-двух десятилетий сам непростой человек тоже был своего рода типом, и это выяснилось довольно скоро. Оценивая работу первого, «ефремовского» «Современника», А. Демидов один из решающих пунктов своего приговора сформулировал так: ««Типажность», всегда почитавшаяся театром за благо, […] уходит в ««маску», отстаивающую свою художественную независимость в сценическом действии»[47]. Можно усомниться в том, что театральное общественное мнение сплошь и рядом почитало типажность за благо; если на него и обращали специальное внимание, то скорей всего принимали как данность, тем более что главные типы времени были и новыми и по-своему индивидуализированными. Актер О.Н. Ефремов — самоочевидная индивидуальность, но играть «под Ефремова» многим удавалось и без внешнего сходства и элементарного передразнивания.
Как данность по праву следовало принимать и то, что личностный (или индивидуальностный) тип принадлежит актеру, а характерность в роли или — реже — роль-характер заимствуется у персонажа пьесы. Этот фрагмент системы и тип структурной связи в самом деле похожи на самих себя в чеховской формулировке.
Но ближайшее его развитие оказалось и объективным и непредвидимым. И этот поворот, опять благодаря критике, был замечен очень быстро, уже в середине 1970-х годов. Вот показательный пример. Собирая портрет всеми любимого кинематографического и театрального Евгения Леонова, общие характеристики актера В.Семеновский формулировал сперва нейтрально: «Всегда, как ни в чем не бывало, «выглядывает» из образа добродушная физиономия. Если это и маска, то подвижная, допускающая трансформацию. А точнее — живой, узнаваемый тип, который в силу характерности и доступности способен оказаться «натуральным» в тех или иных условиях игры». Колебание в выборе термина, как видим, продолжается недолго: Семеновский знает, что маска тут «при чем», но источник или природа этой маски кажется ему важней. Кому принадлежит эта добродушная узнаваемая физиономия? По всей вероятности, актеру-человеку. Скорее всего, это очевидно, и именно потому Семеновский, вслед за предшественниками, на таких подробностях не задерживается. Но продолжает свою спокойную мысль критик весьма резко. Оказывается, тип (или то, частью чего он является) — вещь многослойная или многосоставная. У найденного и поименованного типа обнаруживается еще один тип, то ли сосед, то ли двойник. Эти черты актера-потешника В.Семеновский квалифицирует определенно: «глубоко национальный тип актера». О системно-структурных характеристиках этого типа, понятно, тоже нет речи, но критик и без того сказал достаточно. Нет сомнения в том, что здесь свойства того самого рода, которые в других местах и в другие времена одних актеров делали Арлекинами, а других отправляли в маску Панталоне. Если скрытые в Леонове черты актера-потешника — черты Е. Леонова, то и в таком случае выдают они не его человеческие свойства, а характер его артистизма.
Но и этого мало. На древний, лишь изредка являющийся скомороший слой, и гораздо ясней старинного, наложен еще один[48], не просто из Нового времени, но и ведущий начало от принципиально неактерского художественного массива: и его Креон из давней «Антигоны» Б. Львова-Анохина в театре им. Станиславского, и чеховский Иванов, как и Вожак Вс. Вишневского в постановках М. Захарова — никого из них не миновал «маленький человек» русской литературы. Очевидно, это тоже тип, и тип, несомненно освоенныйактером; однако при этом достаточно ясно, что он «относится» к роли, сознательно вводится в состав ролей Леонова режиссурой.