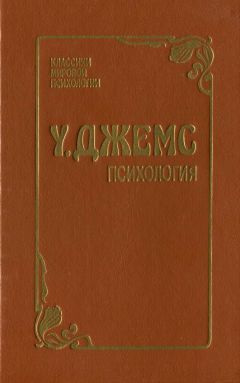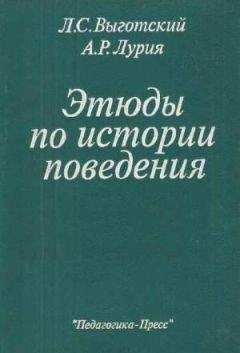Лев Выготский - Психология искусства
На этом основании целый ряд исследователей развивает теорию поэтического творчества, в которой сопоставляет художника с невротиком, хотя вслед за Штеккелем называет смехотворным построение Ломброзо и проводимое им сближение между гением и сумасшедшим. Для этих авторов поэт совершенно нормален. Он невротик и «осуществляет психоанализ на своих поэтических образах. Он чужие образы трактует как зеркало своей души. Он предоставляет своим диким наклонностям вести довлеющую жизнь в построенных образах фантазии». Вслед за Гейне они склонны думать, что поэзия есть болезнь человека, спор идет только о том, к какому типу душевной болезни следует приравнять поэта. В то время как Ковач приравнивает поэта к параноику, который склонен проецировать свое "я" вовне, а читателя уподобляет истерику, который склонен субъективировать чужие переживания, Ранк склонен в самом художнике видеть не параноика, а истерика. Во всяком случае, все согласны с тем, что поэт в творчестве высвобождает свои бессознательные влечения при помощи механизма переноса или замещения, соединяя прежние аффекты с новыми представлениями. Поэтому, как говорит один из героев Шекспира, поэт выплакивает собственные грехи в других людях, и знаменитый вопрос Гамлета: что ему Гекуба или он ей, что он так плачет о ней, – Ранк разъясняет в том смысле, что с представлением Гекубы у актера соединяются вытесненные им массы аффекта, и в слезах, оплакивающих как будто несчастье Гекубы, актер на самом деле изживает свое собственное горе. Мы знаем знаменитое признание Гоголя, который утверждал, что он избавлялся от собственных недостатков и дурных влечений, наделяя ими героев и отщепляя таким образом в своих комических персонажах собственные пороки. Такие же признания засвидетельствованы целым рядом других художников, и Ранк отмечает, отчасти совершенно справедливо, что, «если Шекспир видел до основания душу мудреца и глупца, святого и преступника, он не только бессознательно был всем этим – таков, быть может, всякий, – но он обладал еще отсутствующим у всех нас остальных дарованием видеть свое собственное бессознательное и из своей фантазии создавать, по-видимому, самостоятельные образы» (156, с. 17).
Совершенно серьезно психоаналитики утверждают, как говорит Мюллер-Фрейенфельс, что Шекспир и Достоевский потому не сделались преступниками, что изображали убийц в своих произведениях и таким образом изживали свои преступные наклонности. При этом искусство оказывается чем-то вроде терапевтического лечения{31} для художника и для зрителя – средством уладить конфликт с бессознательным, не впадая в невроз. Но так как психоаналитики склонны все влечения сводить к одному и Ранк даже берет эпиграфом к своему исследованию слова поэта Геббеля: «Удивительно, до какой степени можно свести все человеческие влечения к одному», у них по необходимости вся поэзия сводится к сексуальным переживаниям, как лежащим в основе всякого поэтического творчества и восприятия; именно сексуальные влечения, по учению психоанализа, составляли основной резервуар бессознательного, и тот перевод фондов психической энергии, который совершается в искусстве, есть по преимуществу сублимация половой энергии, то есть отклонение ее от непосредственно сексуальных целей и превращение в творчество. В основе искусства лежат всегда бессознательные и вытесненные, то есть несоглашающиеся с нашими моральными, культурными и т. п. требованиями, влечения и желания. Именно потому запретные желания при помощи искусства достигают своего удовлетворения в наслаждении художественной формой.
Но именно при определении художественной формы сказывается самая слабая сторона рассматриваемой нами теории – как она понимает форму. На этот вопрос психоаналитики никак не дают исчерпывающего ответа{32}, а те попытки решения, которые они делают, явно указывают на недостаточность их отправных принципов. Подобно тому как во сне пробуждаются такие желания, которых мы стыдимся, так же, говорят они, и в искусстве находят свое выражение только такие желания, которые не могут быть удовлетворены прямым путем. Отсюда понятно, что искусство всегда имеет дело с преступным, стыдным, отвергаемым. И подобно тому как во сне подавленные желания проявляются в сильно искаженном виде, так же точно в художественном произведении они проявляются замаскированные формой.
«После того как научным изысканиям, – говорит Фрейд, – удалось установить искажение снов, нетрудно увидеть, что сны представляют такое же осуществление желаний, как и „сны наяву“, всем нам хорошо знакомые фантазии» (121, с. 23-24). Так же точно и художник, для того чтобы дать удовлетворение своим вытесненным желаниям, должен облечь их в художественную форму, которая с точки зрения психоанализа имеет два основных значения.
Во-первых, эта форма должна давать неглубокое и поверхностное, как бы самодовлеющее удовольствие чисто чувственного порядка и служить приманкой, обещанной премией или, правильнее сказать, предварительным наслаждением, заманивающим читателей в трудное и тяжелое дело отреагирования бессознательного.
Другое ее назначение состоит в том, чтобы создать искусственную маскировку, компромисс, позволяющий и обнаружиться запретным желаниям и тем не менее обмануть вытесняющую цензуру сознания.
С этой точки зрения форма исполняет ту же самую функцию, что искажение в сновидениях. Ранк прямо говорит, что эстетическое удовольствие равно у художника, как и воспринимающего, есть только Vorlust, которое скрывает истинный источник удовольствия, чем обеспечивает и усиливает его основной эффект. Форма как бы заманивает читателя и зрителя и обманывает его, так как он полагает, что все дело в ней, и обманутый этой формой читатель получает возможность изжить свои вытесненные влечения.
Таким образом, психоаналитики различают два момента удовольствия в художественном произведении: один момент – предварительного наслаждения и другой – настоящего. К этому предварительному наслаждению аналитики и сводят роль художественной формы. Следует внимательно разобраться в том, насколько исчерпывающе и согласно с фактами эта теория трактует психологию художественной формы. Сам Фрейд спрашивает: «Как это удается писателю? – это его сокровеннейшая тайна; в технике преодоления того, что нас отталкивает… лежит истинная poetica. Мы можем предположить двух родов средства: писатель смягчает характер эгоистических „снов наяву“ изменениями и затушевываниями и подкупает нас чисто формальными, то есть, эстетическими, наслаждениями, которые он дает при изображении своих фантазий… Я того мнения, что всякое эстетическое наслаждение, данное нам писателем, носит характер этого „преддверия наслаждения“ и что настоящее наслаждение от поэтического произведения объясняется освобождением от напряжения душевных сил» (121, с. 28).
Таким образом, и Фрейд спотыкается на том же самом месте о пресловутое художественное наслаждение, и как он разъясняет в своих последних работах, «хотя искусство, как трагедия, возбуждает в нас целый ряд мучительных переживаний, тем не менее конечное его действие подчинено принципу удовольствия так же точно, как и детская игра» (см. 143).
Однако при анализе этого удовольствия теория впадает в невероятный эклектизм. Помимо двух уже указанных нами источников удовольствия многие авторы называют еще целый ряд других. Так, Ранк и Сакс указывают на экономию аффекта, которому художник не дает моментально бесполезно разгореться, но заставляет медленно и закономерно повышаться. И эта экономия аффекта оказывается источником наслаждения. Другим источником оказывается экономия мысли, которая, сберегая энергию при восприятии художественного произведения, опять-таки источает удовольствие. И, наконец, чисто формальный источник чувственного удовольствия эти авторы видят в рифме, в ритме, в игре словами, которую сводят к детской радости. Но и это удовольствие, оказывается, опять дробится на целый ряд отдельных форм: так, например, удовольствие от ритма объясняется и тем, что ритм издавна служит средством для облегчения работы, и тем, что важнейшие формы сексуального действия и сам половой акт ритмичны и что «таким путем определенная деятельность при помощи ритма приобретает известное сходство с сексуальными процессами, сексуализпруется» (156, с. 139-140).
Все эти источники переплетаются в самой пестрой и ничем не обоснованной связи и в целом оказываются совершенно бессильными объяснить значение и действие художественной формы. Она объясняется только как фасад, за которым скрыто действительное наслаждение, а действие этого наслаждения основывается в конечном счете скорее на содержании произведения, чем на его форме. «Неоспоримой истиной считается, что вопрос: „Получит ли Ганс свою Грету?“ – является главной темой поэзии, бесконечно повторяющейся в бесконечных вариантах и никогда не утомляющей ни поэта, ни его публики» (156, с. 141), и различие между отдельными родами искусства в конечном счете сводится психоанализом к различию форм детской сексуальности. Так, изобразительное искусство объясняется и понимается при этом как сублимирование инстинкта сексуального разглядывания, а пейзаж возникает из вытеснения этого желания. Из психоаналитических работ мы знаем, что «…у художников стремление к изображению человеческого тела заменяет интерес к материнскому телу и что интенсивное вытеснение этого желания инцестуозного переносит интерес художника с человеческого тела на природу. У писателя, не интересующегося природой и ее красотами, мы находим сильное вытеснение страсти к разглядыванию» (76, с. 71).