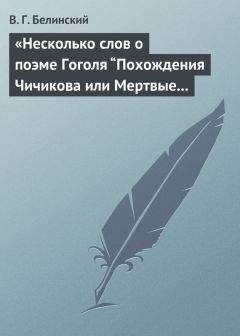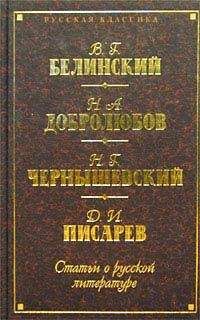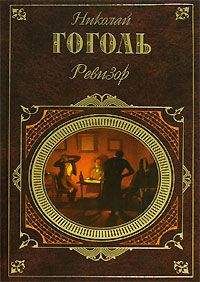Павел Анненков - Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху
Вина этого заглохшего состояния печати, конечно, отчасти падает на суровые обычаи тогдашней цензуры, изумлявшей слепотой и бессмысленностью придирок даже очень осторожные правительственные умы, но вместе с ней вину эту делят и многие другие лица и само общество. Цензура эта, как известно, была порождением страха в виду возбужденного состояния умов на Западе. Русская печать, еще ничем не заявившая наклонности следовать революционной пропаганде своих и западных агитаторов, просто платилась за излишество и шалости европейской печати, возбуждавшей ужас всех сберегателей европейского порядка, в числе которых значилась тогда и наша родина. Как далеко она зашла в этой работе предупреждения преступлений, показывают многие изумительные примеры. В той же просьбе Пушкина, 1833-го года, о дозволении ему политической газеты, откуда мы уже извлекли один отрывок, находится и еще следующая зачеркнутая фраза, совершенно справедливая в сущности и опущенная им, вероятно, из нежелания возбуждать неприятные воспоминания у тех людей, в которых он нуждался: «Литераторы во время царствования покойного Императора — говорит Пушкин — были оставлены на произвол цензуры своенравной и притеснительной. Редкое сочинение доходило до печати» [29]. В другой статье Пушкин потрудился сообщить и самые факты цензурной практики, на основании которых он сделал это замечание. Место, где он упоминает о ней, взято нами из статьи: «О цензуре», и в печать не попало. Известно, что статья эта принадлежит к ряду кратких разборов, писанных Пушкиным, тоже в 1833 году, на известную книгу Радищева, главы которой он проверял одну за другой на дороге из Петербурга в Москву. Приводимое место до такой степени ярко обрисовывает обычные приемы тогдашней цензуры, что после него нет надобности вести речь далее об этом предмете. «Было время, — пишет Пушкин, — слава Богу, что оно прошло и, вероятно, уже не возвратится, — что наши писатели были преданы на произвол цензуры самой бессмысленной. Некоторые из тогдашних решений могут показаться выдумкой и клеветою. Например — какой то стихотворец говорит о небесных глазах своей возлюбленной. Цензор велел ему, вопреки просодии, поставить, вместо небесных, голубые — ибо слово небо принимается иногда в смысле высшего промысла. В славянской балладе Ж. назначается свидание накануне Иванова дня; цензор нашел, что в такой великий праздник грешить неприлично, и не хотел пропустить баллады. Некто критиковал трагедию Сумарокова; цензор вымарал всю статью и написал на поле: „переменить, соображаясь с мнением публики…“ Понятно становится, отчего некоторые имена тогдашних цензоров, как гг. Бирюкова, Тимковского и Красовского, например, не сходили с языка у писателей 20-х годов: они не могли надивиться довольно силе их фантазии и изобретательности при толковании самых простых мыслей и представлений. Пушкин ошибся только в одном: времена старой цензуры возвратились лет через 15 и даже в следствие одних и тех же причин, чуждых русскому миру. Возникли и новые имена цензоров чуть ли еще не превзошедшие свои первообразы в подозрительности и в чудовищности своих догадок.
Но были еще причины беспомощного состояния литературы и поважнее цензуры, которая только делала свое настоящее дело. Об идеальной цензуре с качествами государственного ума, способной строго оберегать интересы правительства и общественный строй, а вместе и понимать свободу, нужную мысли и словесности — тогда еще не было и помина. Цензура просто понималась, как застава, через которую следует пропускать как можно менее народа; но цензура, подобно всем другим установлениям, умеряется массой общественных и нравственных сил, ей противостоящих. К несчастию, последних-то и не было на лицо. Все лучшие силы времени ушли в молчаливые, гордые политические круги, презиравшие литературу, и заперлись там, почти никогда не выходя на литературную арену. После того, как с нее сошли и ветераны Карамзинского периода, вместе с главой своим, на другие, более обширные поприща — арена эта оставалась достоянием наших литературных обществ с их многочисленным персоналом, который, однако же, не имел ни трудовой энергии, ни особенно важных нравственных интересов, для ведения борьбы с некоторой настойчивостью и одушевлением. Цензура имела дело с разрозненными личностями и мелкими побуждениями, которых потому скоро и легко одолевала и устраняла. Умы и характеры другого рода сами сторонились перед нею, как перед несчастием эпохи, чем, конечно, цензура оказывала плохую услугу обществу в деле изъяснения, поправления и обсуждения идей, в нем проявившихся.
Производительные силы не совсем, однако же, заглохли у нас и под ее гнетом. Литература наша пробуждена была из летаргического сна своего двумя явлениями, последовавшими одно за другим: поэмой „Руслан и Людмила“ Пушкина, которая походила на неожиданный луч солнца, осветивший литературное поле, давно с ним незнакомое, и альманахом „Полярная Звезда“ К.Ф. Рылеева и А. Бестужева, который обнаружил, что само поле это еще не вовсе лишено семян и цветов, и далеко не похоже на голую степь, какую из него хотели сделать люди и обстоятельства. Так как оба явления принадлежат, по нашему мнению, к весьма крупным событиям той эпохи, то мы и скажем о них несколько слов, начиная с позднейшего, альманаха „Полярная Звезда“.
Какую значительную долю влияния на словесность, а через нее и на общество, могли бы иметь наши политические круги, доказывает то обстоятельство, что два члена из среды их, явившись с „Полярной Звездой“ (1823), привели в движение все умы, поднятые уже деятельностью Пушкина, и положили конец их праздному существованию, так что 1823-й год должен считаться годом возрождения литературы и поворота к труду, замыслам и начинаниям разного рода. Это подтверждается и фактами. „Полярная Звезда“ поставила себе задачей собрать в один центр все наличные и доселе разрозненные литературные силы, что было необходимо и что она сделала при громком сочувствии, как публики, так и писателей. Второй ее задачей было учинить поверку всего литературного наследства, оставленного прежними деятелями, и при том с точки зрения новых людей, которые призваны пользоваться наследством и желают оценить его по соображениям и по мерке своего времени. За эту работу взялся постоянный „обозреватель“ „П. Звезды“, А. Бестужев, суждения которого, правда, часто рождались по вызову эффектной, вычурной фразы, попадавшей под его перо, но смелость которого и независимость от предания уже предвещали начало нового периода литературы. Пушкин скоро понял важность задачи, принятой на себя новым критиком, и поспешил к нему на встречу. Прямо и бесцеремонно завязывает он с ним в 1823 г., из Одессы, где тогда находился, переписку, которая делается все серьезнее, чем далее идет. Он опровергает некоторые положения Бестужева, предлагает свои определения людей и произведений, взамен высказанных критиком, и видимо не желает остаться без дела и участия в этом, только что открытом процессе над миром литературных явлений, процессе, который должен был положить конец мирному общежитию литераторов под гул одних и тех же похвал, под покровом одного и того же всеобщего потворства и кумовства. Но, литературный орган, созданный „Полярной Звездой“ и имевший все задатки весьма блестящей будущности, рассеян был политической бурей, посеянной самими его основателями и их товарищами по заговору. Не пропал только толчок, данный литературе изданием; живительный дух, которым от него повеяло освежил атмосферу словесности, и вслед за ним являются новые сборники, новые издания: „Мнемозина“ кн. Одоевского, „Северный Архив“ Булгарина, и наконец „Московский Телеграф“ Полевого. Сам Пушкин, поддержанный в роли представителя новых творческих начал и романтизма на Руси восторженными похвалами Рылеева и Бестужева, крепнет в силах и действительно становится главой и светилом литературного периода, который по справедливости своей носит его имя.
Но это еще будущее. Обратимся к поэме „Руслан и Людмила“ и посмотрим, что такое она была для этой эпохи. Пушкин писал ее в маленькой своей комнатке, на Фонтанке, куда он возвращался после пирушек, литературных вечеров, похождений всякого рода; где он лежал иногда отчаянно больной и где потом принимал своих гостей, готовый на всякую проказу по первому их призыву [30]. „Руслан и Людмила“ создавалась в среде всего этого смутного, тяжелого, в разных смыслах, времени и была единственным делом, занимавшим Пушкина в течении многих лет. Несколько подробностей, касающихся истории возникновения этого первого труда нашего поэта, которые сообщаем ниже, кажется, не будут лишними даже для определения степени его развития и состояния его мысли в ту эпоху.
Известно, что Пушкин потрудился оставить нам в записных своих тетрадях почти всю историю своей души, почти все фазисы своего развития и даже большую часть мимолетных мыслей, пробегавших в его голове. Исключение из этого правила составляет только первая, начальная тетрадь его, пустые страницы которой дают красноречивое свидетельство о том, как еще бедна была его жизнь нравственным содержанием. Он ничего не внес в первую свою тетрадь, кроме двух посланий к приятелям, одной эротической эпистолы, одной французской блюетки, переложенной потом в русскую пьесу („Твой и Мой“), одной эпиграммы („Ты прав, несносен Фирс“), пять-шесть стихотворений вчерне [31], да несколько бессвязных, неразборчивых строк какой-то начинавшейся, но незаконченной фантазии, похожей на программу к пьесе — „Фауст и Мефистофель“. Никаких признаков беседы с самим собою, что составляло отличительную черту позднейших его тетрадей, здесь мы не встречаем, а если и является нечто подобное такой беседе, то исключительно в форме рисунков. С одним из них мы уже знакомы, но, кроме его, тетрадь наполнена эскизами женских головок, начертанных весьма бойким карандашом и мужских портретов, иногда в целый рост, как, например, тогдашнего петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который в то же время был и героем театральных, закулисных романов. Между этими изображениями мы встречаем и голову самого Пушкина, слившуюся в один поцелуй с другой неизвестной женской головкой: импровизированный художник так дорожил подобного рода воспоминаниями, что под рисунком сделал подпись: „Le baiser, 1818, 15 Dec.“ От всех листов начальной его тетради веет страшно-рассеянным существованием, не находившим времени поместить что-либо иное, кроме впечатлений, какие вызывала и искала игра молодых и только что проснувшихся физических сил. Напрасно было бы ожидать тут следов его чтения, бесед с людьми, наблюдения жизни, нравственных и исторических заметок, что составляет такую поучительную сторону его тетрадей вообще: автору еще нечего было соображать, нечего помещать и не в чем исповедываться.