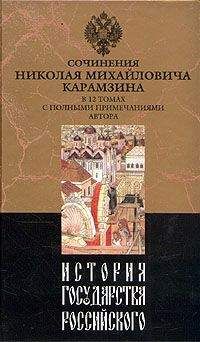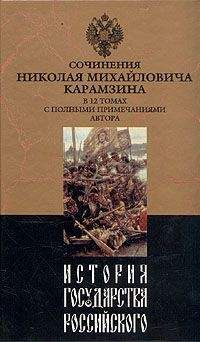Михаил Фонотов - Каменный пояс, 1987
— Гипноз — явление души судорожной, — замечает Басс скучно. — А я на страже общества от таких, как вы!
Уносит посуду подсобница, головка маленькая, по-мальчишески стриженная, а тело большое, широкое, с обтянутыми грудями, — он провожает ее внимательным взглядом.
— Ваша жизнь не удалась, — твердо говорит этот человек, заставляющий себя слушать, и лоб у него начинает маслено блестеть. — Вы для меня, если хотите знать, давно не секрет!
— Сексот! — вырвалось у меня по какой-то ассоциации. — Я вас не боюсь, сексот!
Улицы детства заявили о себе. А на тех улицах словцо «сексот» обозначало гнусность чьих-то намерений, действий…
— Не слышу, — Басс выговаривает так, словно гордится собой, своей выдержкой. — Не слышу и слышать не хочу: вы и так неудачник. Неудачникам я не делаю зла!..
Ого! Это уже почти философия.
Тряхнув головой,-он роняет очки в подставленную ладонь и, полуприкрыв глаза толстыми веками, диктует монотонно, безжалостно, механическим голосом:
— Не будем обсуждать, что такое любовь: это завело бы нас в споры недостойные и двусмысленные…
«Любовь, — думаю я, — и он говорит о любви! А он умен, — мелькает у меня, — умен, шельма»
— …Не будем говорить и о справедливости, сострадании, искушении. Высокая поэзия минует нас: мы, в некотором роде, неприятны друг другу. Таких, как вы, неорганизованных, самолюбивых, я всегда презирал. Вы не получили достаточного образования, скитаетесь по общежитиям, живя как придется, очевидно, не очень разборчивы… Слушайте меня! — почти приказывает Басс в ответ на мое нетерпеливое движение перебить его, даже как будто бы и на мой взмах рукой. — Самое главное — вы были женаты! И Надю я от вас как-нибудь спасу.
Вот он, миг его торжества и моего разоблачения! Надя, Надя…
— Ваш сосед-монтажник бильярдничает, о-о, — деревянно усмехается он, — нам все известно, бильярдничает и забывает семью: водит к себе Злоказову, грязную, беспутную женщину, — вы равнодушны, вы где-то даже и высказывались поощряюще… Ваши соседи Вадим с Романом — какие-то полууголовники, а вы с ними на равных!
Он водружает опять хрустальные стеклышки на переносицу и точно дочитывает приговор:
— В итоге, вам многое, если не все, в жизни безразлично, вы слабы, вы не умеете никому помочь. Чего же стоит тогда ваша любовь? Да вы ее и недостойны, убежден в этом глубоко! Таким образом, молодой человек, я делал и сделаю все, чтобы расстроить вашу ошибочную связь с моей падчерицей…
В минутном оцепенении понимаю непоправимость происшедшего. Несправедливость навалилась, давит. Ответить ему, сию минуту выложить ему все передуманное! Да разве проймешь такого? Ведь он сейчас как бы в азарте: понесло его! Он могуществен, балалаечник! «Потом, потом!» — нелепое, жалкое мелькает во мне.
Поднимаясь из-за стола и невольно бросив взгляд в раздаточное окно, вижу в кухне: вот плита широкая, как площадь, с начищенными котлами, на которых прыгают крышки, с накрытыми противнями; у задней стены на оцинкованном столе лежит свиная голова с закатившимися глазками и улыбается во всю харю.
Горим, горим…Вечером, после десяти, загорелся известковый завод. Потом уж допытались — неисправной признали электропроводку…
Бежали на зарево, кто-то, раскатившись, падал на неровно розовеющей, сильно оледеневшей дороге.
— Горим, Люляев! — весело провизжал корноухий, в сбитой набок шапчонке Вадим и — словно ветром его сдуло. И еще донеслось неистовое: — Пожар! Мужик бабу зажал!..
Горим, горим…
Меня потом спрашивали: «Ну ладно, известковый завод, чему там гореть?» И каждый раз трудно было объяснять: ведь что-то там горело!.. Дерево благодарно отдавалось огню, пугающе-весело стреляли черепицы, искры тучей неслись в черно-морозную ямищу неба; плясал, выкатываясь из огня, народ. Под ногами черно протаивала земля, недобром взблескивая, — всюду хлестали ледяные метлы брандспойтов.
— Ух, петух, в квашне, курица в опаре! — крикнули у меня над головой, и копотный, с плачущими глазами и в тлеющей телогрейке, увлекая за собой обломки черепицы, с крыши стал валиться человек.
— Вы извините, юноша? — почти фамильярно спрашивал он, сам подымаясь и мне помогая подняться… При этом он успевал еще с подозрением охлопывать себя, дымящаяся телогрейка была заметно велика его тщедушному телу; он даже принужден был собирать рукава сборкой, чтобы руки обнаружить. Глаза его плакали, плакали…
Промелькнул с багром наперевес профсоюзник Инживоткин, в дымную темь складских распахнутых ворот вскочил, тотчас выбежал назад уже без багра: рот его был широко раззявлен, хотя крику не было слышно.
— Испытание огнем, а? — хохотнул, сплевывая, незнакомец и, нелепо прыгнув в сторону, вдруг отчаянно опять крикнул: — Ух ты!..
А и меня уже стегала ледяная вода — сразу забила рот и нос, трещала, мгновенно обмерзая, одежда…
Повисла передо мной на минуту баба Махорка — точно накачанная воздухом, — раздула резиново-синие щеки и — нет ее, улетела неведомо куда.
А девчонка ее застряла, девчонка ее дерганая свои пятнадцать на одну улыбочку разменяла; и вот мы с Юношей (так я стал называть про себя этого человека) ожили, а потом, взглянув друг на друга и на девчонку, дружно прокляли окатившего нас все того же Инживоткина.
— Огонь и воду мы уже прошли, остались медные трубы, — доносится до меня голос нового знакомца; он озабоченно ковыляет, распустив рукава, и сам себе командует:
— Еще одно усилие, юноша, еще одно и — последнее!
Многое еще он себе говорит…
Мерещится мне: видел я его прежде, слышал его речи, на Кемском вокзале в толпе всплывало его лицо и тонуло; а может, не там, может, среди Ангелининых друзей на московской свадьбе, в момент моего тоста о необычной жизни, это он, к стыдобе моей и торжеству, восставал над приливом и отливом плеч, причесок, частоколом глаз, — над всеми вопросами без ответов и ответами на немые вопросы… Понимания ждал я, а он меня понимал; живой пример мне требовался, а он был живым примером и намерен был всю жизнь идее этой посвятить! Но и самоотречений жизнь от него требовала, и он отрекался тут же, всякую минуту, каясь в своей и моей идее, он меня предавал!.. Казалось, вот он всем своим видом только сейчас кричал: «Наша идея, наша!» — а вот уже его и не видно.
И еще мерещится жадно глядящее в огонь, застывшее лицо с чернеющим, точно запекшимся румянцем. Оно впитывает огонь, это лицо; но в нем ничего не происходит. Ни летучий, колеблющийся, изуверский свет его не расшевелит, ни падающее, тягостно-черное небо его не окостенит. Ни живо и ни мертво лицо. Надя…
Так где же, Надя, твой ангел-хранитель, всемогущий Басс? Я готов принять его вызов. Горит и рушится мир, отойди в сторону — и тебя задавит молчаньем. Молчаньем равнодушных. Но я здесь и — везде, я на всех рубежах!
Зовут:
— Люля-а-ев!
…Но вот что сразу видно: никого главного нет на пожаре. И не может быть здесь никакого главного! Сам занялся огонь, сам с собой он и управляется. Ухнула, прогорев, крыша… Кто тушит? Пожарники? Нет нигде никаких пожарников, всем миром тушат.
Опять эта девочка Махоркина возле Юноши крутится. Корочку невесть где взятую грызет, а глаза совсем сумасходные, аховые… Все успела испытать девчонка в свои пятнадцать, но когда начнут растолковывать это кому-нибудь непонятливому, к одному поселковые сходятся: с такой матерью и не то еще испытаешь!..
Раздался дружный крик — навалились всем скопом на задымившую чем-то ядовитым и стоявшую в стороне, ближе к жилью, беленую сараюшку. А впереди всех — жадно орудующая каким-то ловким красным топориком Надя Числова… Вмиг разнесли.
А Юноша уже рядом со мной, на нечистом личике его бродит блаженная нечаянная улыбка; но, спохватясь, он отворачивается и вот уже язвит сзади кого-то невидимого, последним словом с кем-то квитается:
— Э-эх, беспуть! Учи тебя, не учи — замучишься.
Вроде бы, всерьез, а смехом. И так же, смехом, как бы обреченно посунулся к огню.
И вот что еще предстоит о нем сказать.
Определенно, шел он по моим следам: выясняется это второпях, в багрово-черном озарении шатучем, на испятнанном снегу. Некий пожар замоскворецкий напоминает он мне многозначительно, я ошеломленно молчу.
А было так: тьма известная, не тьма — сутемь переулочка возле конфетной фабрики; задуваемая дурным ветром лампочка-мигалка единственная — на шесте над обносным забором. Забор тот обносит склад в забубенной бывшей церквушке, не сносившей главы… Идучи переулочком, с теплым батоном в руках, мимо зимующих и погруженных в спячку безгаражных легковушек, попрыгивал я, перелетывал через сугробы той зимы, вытаптывал случайный след. Впереди телефонная будка на оградку сквозную повалилась. За будкой, налево, темный, начала века, дом. Неуверенный путь туда, по той лестнице — с оглядом — дважды в день; путь таимый, трепетный… Это уже после Павелецкого вокзала, Москвы-Товарной, вагона-общежития с креозотовым да соляровым духом. И какая-то прописка по лимиту, с надеждой ожидаемая, какая-то работа плотницкая, в жилищном управлении обещанная, — что это, откуда?