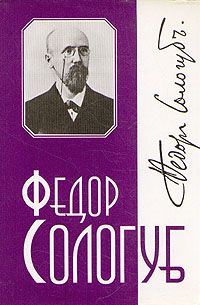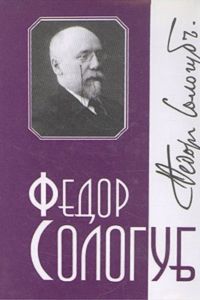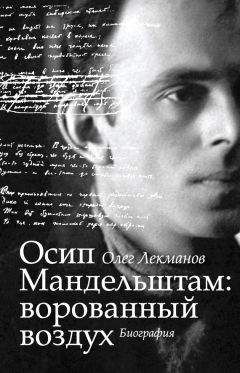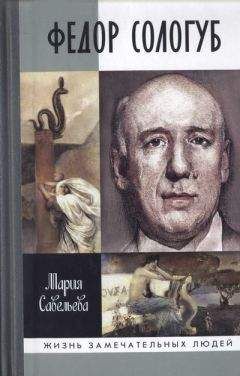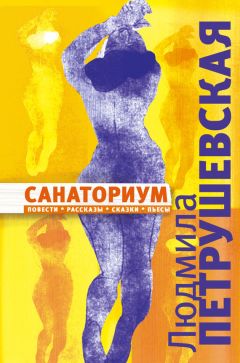Виктор Ерофеев - Лабиринт Один: Ворованный воздух
«Беда Добычина в том, что вот этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиций двинского мировоззрения… Этот профиль добычинской прозы — это, конечно, профиль смерти».
Добычин и тут пошел против течения. Он поднялся на трибуну и кратко, со спокойной дерзостью отверг предъявленные ему обвинения. Как было отмечено в отчете о собрании, опубликованном в «Литературном Ленинграде» (20.III.1936), он сказал
«несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно враждебной».
Спустя некоторое время после писательского собрания Добычин исчез. Друзья подняли тревогу. В квартире, где он жил, все было нетронутым, нашли его паспорт: версии об аресте или переезде в другой город исключались.
Стихия воды оказалась в конечном счете роковой не только для героев Добычина, но и для него самого: через несколько месяцев после исчезновения писателя его тело было выловлено в Неве.
Читая Добычина, понимаешь, что он — как и Лиз — в своих произведениях «заплыл за поворот». Но не из кокетства, не из расчета на успех, а потому, что был настоящий писатель. Писательство — это и есть «заплыв за поворот», предприятие рискованное; все прочее, как сказал Верлен, — литература.
Эпоха выполнила, как грозилась, многие свои обязательства. Конфликт Добычина с требованиями времени привел к насильственному забвению его «нейтрального письма». Добычина прокляли, разоблачили как гомосексуалиста и классового врага, растоптали, забыли.
Теперь он воскрес.
«Приняв от всех приветствия и с каждым гостем выпив, именинница сейчас же ошалела и весь вечер просидела молча, хлопая глазами и то вздергивая голову и озираясь, то опять роняя ее».
Недавно в архивах нашли и опубликовали его предсмертную повесть «Шуркина родня», откуда я взял цитату. Эта повесть написана не с «белых» или «красных» позиций. Она написана писателем, который понял, что в России исторически произошло необратимое обесценивание человеческой жизни. Оно породило революцию. Вместе с ней оно породило детей вроде Шурки, которые с младенческих лет способны на все:
«Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их».
Однажды ему с другом подвернулся лежащий на снегу пьяный. Они сняли с него обувь, а в пустые карманы шинели насыпали, чтобы было смешнее, снегу.
«Шурка посмеялся. — Убивать не будем? — глядя на Егорку снизу вверх, спросил он. — Нет, — сказал Егорка, — не из-за чего, — и Шурка с ним согласился».
В Шуркиной деревне никто не заметил большевистской революции, ни один человек. Казалось, она всегда была в России и всегда будет. «Шуркина родня» — не только литературный шедевр. Это мягко оформленный жестокий приговор. Остается только догадаться, чему и кому.
Именинница, несомненно, одарила нас всех своим отборным потомством.
1985 год
Поэта далеко заводит речь…
(Иосиф Бродский: свобода и одиночество)
Слово как будущее культуры, реализующееся в ее настоящем, как предмет веры агностика, озирающегося в опустевшем пантеоне, словно пассажир в опустевшей электричке, — такова «философия слова» у Бродского. Он боготворит язык в духе неоклассической поэтической контрреформации, корни которой лежат в поэзии, с одной стороны, Элиота и Паунда, с другой — русских акмеистов:
«…Порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, — и дальше, может быть, чем он сам бы желал».[14]
В случае с Бродским эмиграция не просто географическое понятие. Поэт пишет на двух языках, отчетливо осознает «дневную» и «ночную» диалектику двуязычия («После того, как я целый день „варюсь“ в английском, русский необходим мне для восстановления сил и здоровья», — здесь можно прибавить: как сон), и его стихи, написанные в эмиграции, существуют одновременно в русской и английской словесных оболочках, на страницах русскоязычных книг и, параллельно, американских поэтических журналов. Смысл этого параллелизма, наверное, не в том, что, будучи наследником двух поэтических традиций, поэт совмещает в себе две поэтические культуры. Его авторские переводы — не механический жест, а момент раскрытия и узнавания англо-американского творческого наследства, так что современная американская словесность видит в Бродском не столько поэта-пришельца, сколько своего продолжателя.
В книге эссе «Меньше, чем единица»[15] Бродский приобщает американского читателя к миру русской поэзии. В своих же русских стихах поэт парит над американским ландшафтом:
Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы подвору обветшалой
фермы, суслика на меже.
На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит — гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки
Новой Англии…
Этот полет одинокого сильного ястреба, держащего курс на юг, к Рио-Гранде, на пороге зимы, прослежен, казалось бы, американским глазом, но смущает финальная строка стихотворения: детвора, завидев первый снег, кричит по-английски: «Зима, зима!» На каком же языке ей кричать в США, как не по-английски? Последняя строка взрывает герметичность американского мира, вселяет подозрение, что здесь не обошлось без мистификаторской мимикрии, разрушенной напоследок намеренно и наверняка.
В декорациях американского неба вдруг возникает черная языковая дыра, не менее страшная, чем осенний крик птицы, чей образ, и без того нагруженный тяжестью разнородного смысла, в виду той дыры приобретает новое, четвертое измерение, куда и устремляется ястреб:
…Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса — крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.
Бывают программные стихи, но не бывает программных криков, так что я удержусь от банальных определений, замечу только, что этот крик эхом отозвался во всех углах сборника стихов Бродского «Урания» (1987).
Как отзывается эхом и слово одинок. Здесь, я вижу, открывается перспектива дешевого злорадства. Но если это эхо свести к эмигрантскому синдрому, выйдет глупость. Стоит ли говорить о том, что Бродский, один из самых молодых нобелевских лауреатов, не нуждается в лицемерном или в нелицемерном сочувствии, его судьба в американском изгнании — в отличие от многих — сложилась на редкость благополучно, и дело даже не втом, что, обласканный вниманием интеллектуальных кругов, он жил безбедно и вольно, читая лекции по литературе в различных американских университетах, а в том, что его творческая судьба не прерывалась, она логическим образом развивалась.
И если развитие вело поэта все дальше к одиночеству, то это было им же самим предсказанное и неизбежное одиночество, причина коего таилась не столько в исходе политической тяжбы с не распознавшим его талант государством (случай в России распространенный, почти хрестоматийный), сколько в поэтическом кредо Бродского, его экзистенциальной позиции.
Простая, жестокая мысль о том, что свобода художника обретается ценой одиночества, а, если перефразировать Брехта, абсолютная свобода стоит абсолютного одиночества, приходит на ум, когда читаешь стихи из «Урании»:
Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.
Но останавливаются. И заросли
скрывают дальнейшее, как печать
содержанье послания…
Одиночество, в глазах обывателя, вещь не менее стыдная, чем голое тело. Чем дальше, тем прозрачнее становится воздух стихов Бродского, тени удлиняются, оказываясь куда длиннее человеческих фигур, которые к тому же все чаще оборачиваются мраморными изваяниями, не приспособленными для диалога.