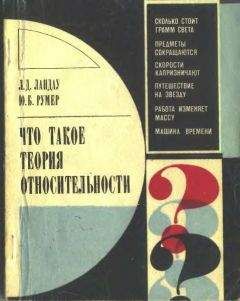Юрий Барбой - К теории театра
5. Эволюция частей
От вопроса о том, что представляют собой те части спектакля, которые на протяжении веков не уставая входили между собой во все более непривычные связи, мы прежде, по совету структуралистов, рискнули абстрагироваться. Но такая операция корректна лишь при условии, что у нас есть гарантия постоянства этих частей и их равенства самим себе. Между тем, на самом-то деле такой гарантии нет. Напротив: чем более высокого порядка сложности система, тем существенней составляющие ее элементы, тем принудительней внимание к их «индивидуальности». Театральное произведение — уже по одному тому, что оно целиком принадлежит социальной сфере — из самых сложных систем. Но не методологические установки структурализма (которые мы законом над собой не признавали) — наши собственные наблюдения над тем, как меняются структуры, заставляют серьезно вглядеться в части спектакля, а в актера, сценическую роль и зрителей — прежде всего.
Подобно связям между древнегреческим актером, его ролью-маской и тысячами людей, окруживших орхестру, сам этот актер, сама маска и Зритель — элементарны. Тип и смысл тогдашней роли красноречиво охарактеризовал С. Аверинцев: «Маска — это больше лицо, чем само лицо». «До конца выявленная и явленная», она, в отличие от лица, одна только и может достичь «полной самоопределенности, массивной предметной самотождественности»[28]. Если углы губ у нее приспущены, если она говорит о Герое, что он трагический, это по существу все, что в нем есть и что надобно о нем сказать. За маской, прав Аверинцев, ничего нет: личина и есть личность. И когда он в той же статье сравнивает маску с демокритовским атомом и платоновским эйдосом, это сравнение имеет особый смысл не только потому, что маска, подобно атому или эйдосу, без всяких опосредований указывает на «сущность», но еще потому, что всякая такая сущность — последняя глубина, самотождественная и дальше не делимая.
Древнегреческий актер, больше чем в параллель маске — в прямом соответствии с нею, — имеет отчетливо «атомарный» вид. Он не более чем живой материал для создания в пространстве и времени форм маски. О творческой индивидуальности тогдашнего актера можно гадать, потому что она, по крайней мере, могла быть, хотя, по-видимому, была строго ограничена областью умений. Легенда гласит: у актера, который играл отца, потерявшего сына, умер сын; актер решил использовать свои чувства на благо искусству, для чего стал «переживать» и был оштрафован — как мы бы сейчас несомненно сказали, за натурализм.
Но об индивидуальности артистической или тем более о личности рассуждать вовсе не имеет смысла: если маска, главный сценический объект актера, завершена в себе и актерскому влиянию в процессе творчества не подвержена, собственно художественная ипостаcь актера — плод малопродуктивной фантазии.
Нет никаких источников, которые заставляли бы усомниться в том, что зритель в этом театре художественно даже не элементарен — нем. Он есть, он в наличии, драматическому поэту с помощью сказания пьесы и актеров есть на кого воздействовать, и этого для театра древних греков достаточно.
Разнообразие средневековых театральных жанров заставляет присматриваться к каждому из них. Но можно поступить иначе (так и поступим): взять края этого диапазона. С точки зрения нашей темы это, с одной стороны, моралите, с другой мистерия. Актер моралите, который держит своего персонажа в вытянутой руке и демонстрирует его зрителю, больше всего и больше, чем актер, работающий в других средневековых жанрах, похож, если воспользоваться терминологией 1920-х годов, на докладчика. Есть смысл вспомнить даже о своего рода очуждении наподобие того, что прокламировал в ХХ веке Б.Брехт: в резком свете такой неисторической пародии видна теоретическая (и не пропадает историческая!) специфика системы моралите. Пусть актер Брехта очуждает не характер Мамаши Кураж, а маску Артуро Уи, пусть за такой маской, по слову И. Соловьевой, «стоят не прототипы — живые лица, а прототипы — жизненные процессы»[29], сами процессы эти все же, по определению Соловьевой, типизированы. В моралите за ролью Добродетели нет не только компании порядочных людей без центра — за нею ничего нет, кроме понятия. В ней нет ни живого синкретизма античной маски, ни «снятой целостности» общего и индивидуального, на котором держится маска в новое и новейшее время.
В мистерии дело обстоит, кажется, противоположным образом. И когда речь о «положительных персонажах», и особенно когда об отрицательных — например, чертях. Как и в роли Добродетели, в роли Черта нет никаких индивидуальных свойств; у Черта есть только действенные функции — пакостить положительным героям и радостно тащить в ад давших себя соблазнить. Это, конечно, не «понятие», но, подобно понятию, с точки зрения норм художественного образа, крайняя односторонность. В роли еще нет заведомой сложности, но нет уже неразложимой греческой целостности: она распадается на глазах средневековых зрителей и при их активном участии. Эта почти пустая форма — именно потому что пустая — естественно, требует импровизации, античному актеру неведомой. Эллин золотого века выходил на орхестру, кроме редких нетипичных случаев, лишь однажды и с ролью, у которой было определенное и уникальное содержание, сочиненное поэтом. Средневековый гистрион, получавший от города ангажемент, мог рассчитывать и на повторение заказа, но даже если он тоже выходил на подмостки один раз, содержательность и определенность его Черту придавал он сам. Роль внятно слоится, вынужденно составляется из действенной схемы и принципиально «не написанных драматургом», но необходимых сиюминутных деталей, зависящих от того, в какие отношения войдет сегодня этот актер с этой толпой. Никаких таких деталей в образе персонажа нет, но они, когда актер берется его изобразить, возникают в созданной им роли.
Взявший на себя важную общественную миссию самодеятельный участник моралите и бродяга, который сам похож на нечистую силу, солидный докладчик или, как выражался Г.Н. Бояджиев, ритор[30], ответственно излагающий слова роли, проделывающий строго определенные иллюстративные движения — и развлекающий публику неприличными телодвижениями гистрион — контраст еще более разительный, чем между ролями, которые они играют. Тем не менее и между ними есть общее, как есть общее между их ролями. Каждый из них знает, что он не роль, каждый свою роль показывает, каждый отдает своей роли необходимый ей материал. В одном случае свою гражданственность, в другом, как минимум, профессиональное бесстыдство. Для наших целей и такого минимума достаточно: в обоих театральных вариантах мы имеем дело с человеческими свойствами артиста и одновременно с «техническими умениями».
Подобно исполняемой им роли, средневековый актер в этой роли уже не химически неразделимый атом, он из чего-то составляется. Подобно актеру, роль представляет из себя либо односторонность, невольно намекающую на возможность других сторон, либо комбинацию из нескольких элементов. Реально исторически все это, несомненно, аморфно, неустойчиво, проявляется бликами, фрагментами, но замена актера-атома и роли-атома, которые связаны между собой элементарными отношениями, — принципиально неоднородными образованиями, способными вступить в гораздо более интимные связи, по-видимому, налицо. Сходство между «структурным типом» актера, роли и спектакля, надо думать, тоже не домысел. Возникает намек на рождение некой закономерности: динамизация связей между элементами спектакля и усложнение состава каждого из них — это один процесс.
Театр, берущий начало в Ренессансе, и в этом отношении демонстрирует рывок, прорыв. Воспользуемся той же логикой, что и прежде: если на каком-то участке театрального пространства нечто случилось, сталось — оно для театра уже есть. Поэтому мы можем с порога избавиться от соблазна охватить эту неохватную для театрального искусства эпоху. Обратимся (и опять не так, как делает это историк) к излюбленному материалу новаторов ХIХ и ХХ веков — комедии дель арте. Это театр профессиональных актеров в пожизненных устойчивых масках. Пережив несколько веков и мутаций, маска стала видеться как эталон устойчивого, законченного, выразительного и вместе экономного, именно и в первую очередь сценического художественного образа персонажа и, стало быть, как идеальный «шаблон» для актера.
С таким или подобным историческим резюме не стоит спорить. Необходимо, однако, учесть, что ни устойчивость ни завершенность ни пожизненность для актера не делают маску комедии дель арте «простой». Так, в частности, оставаясь собой или войдя в состав других образов, маски по праву претендуют на общечеловечность — но при этом они не утеряли свойства, рожденные их социальными, национальными и даже региональными истоками. Маска по-прежнему классический пример действенности, ибо все в ней зависит от места, которое она занимает в действии спектакля. Это почти автоматически означает, что она приговаривает к остроте и известной односторонности выражения. Но это совсем не означает, что в каждой маске генерализировано одно какое-то человеческое свойство. Квинтэссенция сценического действия, маска вобрала в себя аристотелево «направление воли», но кроме того, что она не свойство, а характер, она характер впервые не в античном, а, так сказать, в будущем смысле этого понятия. Она заведомое обобщение, то есть тип. Но это тип характера, тип человека, предполагающий в человеке индивидуальность.