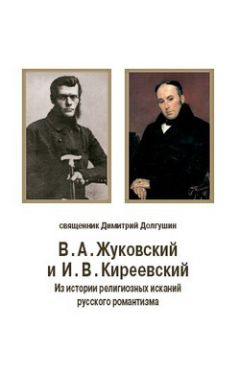Михаил Вайскопф - Влюбленный демиург. Метафизика и эротика русского романтизма
Смежный и несравненно более популярный вариант героического одиночества обусловлен был, как известно, жреческим пониманием роли искусства, который усвоили любомудры и который распространился затем в романтической культуре. Конечно, сакрализация стихотворца была задана, с опорой на Горация, в России уже Державиным. Но самое настоящее, поистине литургическое обожествление поэта, причем современного, за много лет до становления отечественного романтизма, первым, если не ошибаюсь, ввел в русскую литературу Востоков. Откликаясь в 1805 г. на смерть Шиллера, он почтил его память восторженными стихами, в которых сперва представил покойного посланцем небес и чуть ли не святомучеником немецкой культуры, успевшим претерпеть «гоненье тиранов»; а затем весьма откровенно соотнес его с самим Христом, по которому томились эоны («века»), подключив к образу покойного поэта евангельские речения («Блаженна Германия, родившая тебя»). Сверх того, развертывая это свое эстетическое богословие, Востоков снабдил Шиллера «предтечами», вместе с ними образующими в итоге некую новую, литературную Троицу, поданную под псевдонимом Триумвирата:
Ах! с самого Неба
К чадам земли ты послан был
<…>
Ни краткость дней твоих, ни гоненье тиранов
Не воспятили тебе, о Гений,
Щедро разлить из разженного Небом сердца
То,
Чего многие веки
Ждали;
Чего многим векам
Не дано чувствовать.
Блаженна Германия, родившая тебя,
И язык тевтонов,
Его ты же объизяществовал и увековечил, –
Ты и предтечи твои, Виланд и Гете.
Славный Триумвират![191]
Востоков, однако, акцентирует внимание вовсе не на страдальческой участи гения и, разумеется, не на каком-либо его одиночестве, а на небесном даре нового мессии, осчастливившем родную Германию. Никакой вражды к миру здесь нет и в помине.
В эстетике любомудров акценты расставлены по-другому (и с оглядкой на культ художника, установленный Гете). Поэт, композитор или живописец словно расширяет для самого себя и для круга «избранных» некий персональный оазис, созданный его творчеством. Возносясь душой к небесам, он, как правило, не помышляет об оставшейся внизу «тупой черни» – той самой, о которой пусть в отдаленной перспективе, но все же печется надутая этическая «добродетель».
Сегодняшним читателям такой взгляд памятен прежде всего по нескольким стихотворениям Пушкина второй половины 1820-х – начала 1830-х гг. Но пушкинская позиция постоянно эволюционировала, все больше удаляясь от этого канона, в 1830-е гг. успевшего стать общеромантическим штампом. Уже в «Моцарте и Сальери» (1830)[192] жреческая миссия гения сопрягалась, как всегда отмечается, с тем живым и веселым любопытством к обычной, профанной среде, которого полностью лишен был иератически важный и хмурый Сальери, его завистливый почитатель[193]. Именно Сальери с презрением упоминает о «тупой, бессмысленной толпе», и именно его размышления о музыке проникнуты резким дуализмом – но дуализмом, так сказать, инвертированным[194]. Противопоставляя гения «чадам праха» – ср. «чада земли» у Востокова, – он стремится уберечь их от томительных небесных искушений, воплощенных в Моцарте:
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
В стихотворении «Поэт идет: открыты вежды…» (1835) и некоторых других поздних пушкинских текстах доминирует уже не столько чувство сакрального превосходства над толпой, сколько холодная отчужденность от нее, тяга к одиночеству. Но вместе с тем в «Египетских ночах» предметом вдохновения для Поэта становится как раз «ничтожный» дольний мир, за что его укоряет Прохожий. Последний, представительствуя от черни, оглашает ее вкусы, теперь уже парадоксально совпадающие с подхваченными ею элитаристскими клише: он порицает Поэта за то, что тот влечется к ничтожной повседневности, вместо того чтобы, как ему положено, парить в горних сферах: «Едва достиг ты высоты, И вот уж долу взор низводишь И низойти стремишься ты. На стройный мир ты смотришь смутно; Бесплодный жар тебя томит; Предмет ничтожный поминутно Тебя тревожит и манит. Стремиться к небу должен гений, Обязан истинный поэт Для вдохновенных песнопений Избрать возвышенный предмет».
Эпигоны в таких тонкостях, конечно, не разбирались и неизменно предпочитали «возвышенные предметы». Сакрализация, а вернее, самосакрализация гения проводилась у них с нахрапистым и примитивным усердием. Герой драмы Кукольника «Доменикино», безгранично презирающий «людей» и «чернь», изрекает: «Велик мой труд, – он может быть приятен Лишь мне, да Богу, да Его Святым»[195].
В большинстве романтических произведений «толпа», однако, агрессивно реагирует на презрение или безучастность к себе – как и на самое существование гения. Люди, преданные «духу мира сего», а потому враждебные этой бесполезной и тревожной для них гениальности, в ответ становятся жестокими ее гонителями. Понятно, что дихотомия художника и черни легко облекается в формы обостренного гностического дуализма; но она может и смягчаться благодаря запоздалому признанию его «славы» или же, как у Востокова, вливаться в русло евангельских ассоциаций.
Преследования (пассивная их форма – непризнанность, чреватая нищетой и голодом) часто разрешаются горестной стагнацией или гибелью эстетического страстотерпца. Один из многих тому примеров – «Напрасный дар» Е. Ган с ее талантливой и бесконечно несчастной героиней, умершей в глуши; но задолго до того у Погодина в «Черной немочи» был выведен такой же злополучный искатель научного гнозиса – купеческий сын, окруженный дремучей средой, которая доводит его до самоубийства.
В сюжетах о затравленном гении последний весьма откровенно стилизуется под Иисуса, а его бездушные враги получают статус, сообразный с такой ситуацией. Его via dolorosa – это дорога к славе. Часто эти гонители изображаются его «братьями» во Христе, которые, увы, по своей тупости и злобе распинают мессию, взявшего на себя их грехи. Однако и в таких текстах преследуемый поэт либо художник, задрапированный в евангельские ризы, мечтает не столько о спасении этого безнадежного мира, сколько о скорейшем уходе из него на свою небесную родину – т. е. вновь актуализирует эскапистско-гностическую модель. С энтузиазмом эпигона ее разрабатывает, например, Сатин:
Так, братья, так: клянусь, я чист пред вами,
Как чистым был Христос пред палачами:
За грех других, как он, страдаю я,
И нужен мне мир лучший бытия!!..[196]
Таким же возвышенным анахоретом предстает и главный, повсеместный герой Золотого века – романтический мечтатель, бесконечно чуждый косному социуму и обретающий родственную душу только в возлюбленной, чудесах искусства или голосах природы, которая доверчиво приоткрывает ему свои тайны. Подобно художнику, он причастен небесам, а его приватный рай, зыбкий и беззащитный, – лишь отблеск горней благодати, потерянной человечеством; подобно художнику, он подвергается на земле поношениям и обидам. Иначе говоря, он тоже становится мучеником, жертвой «мира сего», – а в символическом плане заместителем Иисуса.
С другой стороны, обычный – а значит, далекий от абстрактно-теософских претензий – романтический индивидуалист, будь то художник либо влюбчивый одинокий мечтатель, как и натурфилософ, в той или иной мере тоже знаменует собой надежду на спасение для остального мира, погрязшего в суете и убожестве. Весь вопрос, однако, именно в этой «мере» – в том, насколько альтруистическая перспектива релевантна для повествования. Как правило, тексты с эстетической доминантой – например, опусы Кукольника – предпочитают сосредотачиваться лишь на предсмертном или посмертном апофеозе художника, а заодно на раскаянии толпы, с опозданием узревшей его величие. Вместе с тем нам знакомы компромиссные сюжеты типа гоголевского «Портрета» (о котором см. ниже), где монастырский живописец, уйдя из мира, одновременно радеет о том, чтобы выявить и запечатлеть небесную премудрость, таящуюся в этом уже покинутом им мире. Но тут остается неясной сама цель его труда и степень его сотериологической значимости, ибо для Гоголя, как и для всего русского романтизма, нерешенной остается главная дилемма: заниматься ли спасением собственной души, устремляя ее к потусторонней отчизне, или исцелением и оправданием нашей земной юдоли.
12. Ностальгия по небесному «первообразу»
Мысль об осиротевшей и обездоленной натуре вступала у многих романтиков в очевидный конфликт с воспринятым ими богословским представлением об устройстве сотворенного мира как наглядном, самом убедительном воплощении божественной мудрости и благости Провидения (телеологическое и космологическое доказательства бытия Божия). Эти темы, почти изначально внедрившиеся и в русскую поэзию, в период александровского царствования интенсивно подновлялись благодаря импортной религиозной литературе. Так, согласно одному из очень авторитетных ее произведений, которое мы тут уже цитировали, «во всем действует Премудрость Божия, исполняющая вселенную <…> нет в ней ничего, совершенно ничего, где бы Она не являла себя»[197]. Представление о божественном начале, запечатленном Богом в Его творении, усвоено было, в частности, Козловым, который писал в поэме «Безумная» (1830):