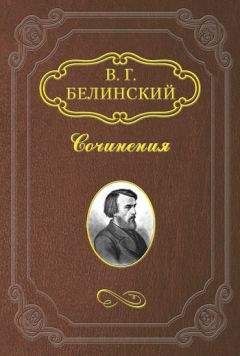Виссарион Белинский - Речь о критике
Вообще об ограниченных людях с убеждениями можно составить целую книгу, которая была бы интересным психологическим сочинением. Главное различие между даровитыми и умными людьми с убеждениями и между посредственностями с убеждениями состоит в том, что убеждения первых выходят из истины, а убеждения вторых – из мелкого и раздражительного самолюбия. Человек с умом всегда подвержен сомнениям, которые часто охлаждают и ослабляют жар и энергию его убеждений; люди посредственные свято веруют во всякий вздор потому только, что этот вздор вышел из их головы. Чудаки эти часто не подозревают, что и вздор-то, поддерживаемый ими, не их, а навеян на них другими, которые имеют свои виды на вздор известного рода и на добродушное усердие простяков, готовых от души ратовать за чужое мнение, за которое ловко умели заставить их уцепиться, как будто за их собственное. Так иной патриот, наживший втихомолку, разными «патриотическими» средствами, «индеек малую толику», приберет себе журнального работника да из-за его дюжего в работе плеча обделывает помаленьку свои делишки, взяв на себя только труд говорить от времени до времени, что он готов умереть за свое родное и что он с головы до ног – «патриот».[25] А простяк работает как вол из одного бескорыстного стремления обобщить свои идеи о том, что где много просвещения, там все гниет, и что нравы праотцев лучше всякой заморской мудрости. Однакож этот простяк бывает иногда не очень добр и часто обнаруживает придирчивую взыскательность, – это с ним случается всякий раз, когда заденут его авторское самолюбие или его педантический догматизм. Во всем остальном это добрейший человек; похвалите его, согласитесь с ним в его мнениях, – он произведет вас в гении. Это ему так легко, ибо у него нет никаких начал: его мыслию управляют слова, а не мысли словами. Слова же его – это образец пухлого бессмыслия, изысканных фраз. Если он давно пишет (особенно, если еще чему-нибудь учился, знает языки и много читал), он набивает руку и приобретает способность много и скоро писать обо всем, и притом так, что в его писании есть какая-то оригинальность, какой-то блеск выражения. Но это оригинальность искусственная, это блеск фольги. Прочтете – и не помните, что и о чем вы прочли. Особенно поражает вас в его слоге искусство парафразирования: одна и та же мысль, и притом простая и пустая, как, например, то, что деревянные столы делаются из дерева, одна и та же мысль тянется у него длинною вереницею предложений, периодов, тропов, фигур; он переворачивает ее с боку на бок, плодит ее на целых страницах и пересыпает многоточиями. Все у него так кудряво, во всем такое изобилие эпитетов, амплификации, что неопытный читатель дивится этой живописности, этой рельефности, этим разноцветным и блестящим переливам слога, – и его очарование только тогда исчезнет, когда он задаст себе вопрос о содержании бойко и затейливо написанной статьи: ибо, вместо всякого содержания, он замечает, к удивлению своему, только одно пухлое самолюбие и одни пухлые слова и фразы. Это особенно часто является на Западе, особенно с тех пор, как Запад начал гнить; у нас, на Руси, где еще писательство не обратилось в привычку, такие явления пока еще едва ли возможны.
Вообще, убеждения людей посредственных, невежественных и ограниченных представляют собою картину столько же смешную, сколько и жалкую. Они почти всегда оканчивают решительным неуспехом и совершенным отчаянием. Не такое зрелище представляют собою люди ловкие, но без всяких убеждений, критики не по призванию, а по нужде или по расчету. Этим большею частию хорошо везет, особенно если они умеют во-время остановиться, кстати замолчать. Но здесь-то они обыкновенно и попадаются в сети своего черного демона. Привычка управлять мнением доверяющей им части публики так вкореняется в них, что делается равносильною страстию жажде приобретения. Это заставляет их всю жизнь повторять одно и то же, то есть кричать о своих заслугах, о своей народности, о зависти, невежестве, злобе и бесталантности своих врагов, о своей готовности умереть за истину (на бумаге), о том, что кто не написал сам романа, тот не имеет права судить о чужих романах… Как это не надоест им самим! Тактика их очень проста и (до поры до времени) очень верна; они льстят публике, величая ее «почтеннейшею» и «милостивою государынею» (в харчевнях такая галантерейность обращения, говорят, в большом ходу), и главное – хвалят себя без стыда и совести. Одну и ту же книгу они и разбранят и расхвалят, и потом опять разбранят и расхвалят, смотря по тому, что найдут в книге… Если их уличат в противоречии, они ссылаются или на сотрудника, которого будто бы не считают себя вправе стеснять в убеждениях, или говорят, что их листок дает место всем мнениям, не отвечая ни за одно. Притом же они очень хорошо знают, что журнальные листы живут один день и завтра забываются: так где же публике помнить все противоречия и все проделки его издателей! До убеждений, до начал им нет дела: они знают – будет день, будет и хлеб. И потому у них что день, то новые убеждения. В одном только верны они себе – во вражде ко всякому успеху, в котором они не участники – и к материальному и к умственному. Талантов они не любят по инстинкту, ибо сами богаты только звонкими ходячими талантами. Все это опять обыкновенное явление на Западе, где ежедневная журналистика сосредоточила в себе все интересы современной жизни. Там даже бывают такие газетеры, которые, прочтя в другом журнале что-нибудь о литературных плутнях, сейчас же пишут возражения и нападают на дурной обычай употреблять личности. Успех книги они обыкновенно измеряют ее расходом; нападая на другой журнал, всегда считают по пальцам его подписчиков. Если им некогда удалось поддеть публику какими-нибудь шарлатанскими сочинениями, то они так и колят глаза людям, которые ничего не издали отдельно, лишая их за это права писать в журналах. Им нужды нет, что их книги давно уже забыты: они тем громче кричат о своих заслугах, зная, что не всякий читатель захочет справляться насчет достоинства их писаний. Но как же, спросят нас, они так долго могут держаться? Очень просто: люди сметливые, они во-время затеяли издание, в котором была нужда, прежде чем публика их разгадала, издание их получило ход, а соперников не являлось, потому что за границею основание нового издания очень трудно в денежном отношении.[26] Это промышленники мелкие. Их критика – фельетонная, мелочная; она состоит больше в объявлении о новых книгах, с приличными возгласами. Но бывают промышленники en grand, промышленники оптовые. Этим для успеха нужна не одна ловкость и изворотливость, но и ум и способности, если не талант. Мелкая изворотливость им нужна только для зазыва публики в их олимпийский цирк с великолепными представлениями на лошадях и с фейерверками; но тут им может помочь какая-нибудь приятельская газета, которая закричит: «Кто не подпишется, тот не любит отечественной литературы». Но вот великое дело совершено с успехом; тысячи подписчиков жаждут читать новый журнал – неслыханное чудо, невиданное диво в мире журналистики. Любопытно знать, как и чем оправдает новый журнал возбужденные им безмерные ожидания в публике, как и чем упрочит он свое существование на будущее время. Разумеется, критикою, которая есть душа всякого журнала. В чем же будет состоять направление новой критики, какой будет ее отличительный характер? – Наш журналист человек умный: он знает, что надо блеснуть новизною, надо быть оригинальным, надо озадачить. И вот он полагает в основу своей критики скептицизм и насмешку. На что же устремлены его скептицизм и насмешка? – На все, о чем ни говорит он, на все, чем ни велик мир науки, мысли, искусства. Он понимает, что скептицизм – самая лучшая удочка для уловления толпы. Простодушная, она обыкновенно удивляется тому, кто, много зная (то есть обо многом говоря с уверенностию), ничему не верят и все считает за вздор. Насмешка ее забавляет, не давая ей труда мыслить и вникать в сущность дела. Толпа притом самолюбива; она низко кланяется гению, таланту, всякому роду нравственного превосходства; но от этих поклонов втайне страждет ее самолюбие; ей неприятно думать, что над нею так высоко стоят несколько выскочек, что эти выскочки высшей натуры, что они – аристократы человечества, а она, бедная толпа, представляет собою простой народ, plebs. Надо подслужиться ей, надо польстить ее тайной думе, которой она не смеет высказать, надо говорить ей, что все хорошо только издали, что славны бубны за горами, что все великое велико только условно. И вот – в новом журнале является биография за биографией, но совсем не вроде плутарховых «жизнеописаний великих мужей». Простодушный и возвышенный грек видел в своих великих мужах проявление на земле божественного начала, торжество и славу человеческого духа, красу и утешение человечества. Он не скрывал от читателя темных сторон своих героев, ибо знал что без этих сторон они были бы не людьми, а призраками; он отыскивал силу в слабости, разум в ограниченности, добродетель в борьбе со страстями, – так как все это является в самой действительности и как, следственно, иначе являться не может. Наш биограф отправился от противоположной точки воззрения: он отыскивал эгоизм в самопожертвовании, заблуждение в истине, глупость и тщеславие в добродетели. Великие люди у него явились и завистниками, и интриганами, и пролазами, и эгоистами, и невеждами, и негодяями; он искусно умел оттенить их этими качествами так, что из-за этих качеств не видно стало великих людей. Когда же сами факты слишком противоречили его уже чересчур субъективным воззрениям на великое в мире, – он смело ломал действительность фактов, выворачивал их наизнанку, или, опираясь на свою мнимую ученость, выдумывал небывалые факты, или отрицал действительность известных и доказанных, ссылаясь на какие-нибудь небывалые новые сочинения. И вот толпа обрадовалась, что ей все по плечу, что она нисколько не хуже, нисколько не ниже своих бывших идолов, которые велики только благодаря прихоти ваятелей, давших им колоссальные размеры. Славный журнал! толпа читает и не нахвалится!.. Но не одним этим ее тешат. Ей доказывают, что наука – вздор, изобретение педантов, что разум, которым гордится человечество, есть не что иное, как обманщик человечества, который водит его за нос; что система выдумана школярами, чтоб затемнить истину, что можно все знать, ничему не учась и только читая журнал, в котором проповедуются такие удобоприложимые к жизни начала; что философы – шарлатаны, что сам Сократ был тонкий плут, морочивший афинян своим демоном, и пр. «Эге-ге! – говорила толпа, лукаво посвистывая, – так вот оно как! ай-да молодец! славно, ну!» Но толпа не может жить без гениев: отсутствие гениев так же оскорбляет ее самолюбие, как и их превосходство перед нею. Ловкий критик-скептик понимает это. И вот он делает своих гениев, выдавая патенты на гениальность своим клевретам, разной посредственности. Это ему и легко и весело: он их и жалует и разжалывает по своей воле; а они его трепещут, пишут по его заказам, работают сплеча, – и романам, повестям, драмам конца нет… Толпе любы эти гении, с которыми она может обходиться запанибрата, которые велики, знамениты, славны и в то же время скромны и никого не могут оскорбить своим превосходством; которые сочиняют славно, а зазнаться не смеют, ведая, что с ними церемониться не будут, как с теми деревянными божками, которым буряты кланяются и приносят жертвы во время вёдра и которых они же нещадно секут во время ненастья. Все истинно великое, истинно даровитое критик хвалит только по отношениям, когда от этого есть польза его журналу; но и тут он хвалит так двусмысленно, что не разберешь, шутит он или говорит серьезно, бранит или хвалит. Те же таланты, которые гордо презирают и его бранью и его лестью, он неослабно преследует и намеками и явною бранью. Ему это так легко, он так смел и решителен… Разбирая книгу, он выдаст собственное сочинение за выписку из разбираемой книги и скажет: «смотрите, как глупо!» Он же к этому мастер смешить толпу, – а кто хохочет, тот побежден, тому некогда ни подумать, ни навести справки. Все это для критика-скептика очень хорошо: журнал его цветет, имя его пользуется известностию, благосостояние утверждено. Но высшая точка успеха часто бывает опасна; кому нельзя итти выше, тот часто летит вниз… Толпа – предатель, толпа не умирает, как человек; ее выбылые ряды беспрестанно заменяются новыми свежими лицами, которые требуют нового и находят пошлым повторение старого. Наш же журналист-скептик поневоле должен ограничиться повторением одного и того же, ибо только одна истина неистощима в своем развитии и, пребывая самой собою, одною и тою же, всегда является в своем развитии новою и оригинальною. И благо скептическому критику, если он сумеет остановиться во-время и будет забыт, не напоминая о себе! из всех родов забвения самый унизительный для человека тот, когда он еще твердит о себе, а о нем уже забыли. Не помогут тогда ему никакие фокус-покусы, и его журнал падет, как ни вспрыскивай его мертвою и живою водою поздних преобразований и улучшений, как ни призывай себе на помощь и на поддержку неопытных спекулянтов…