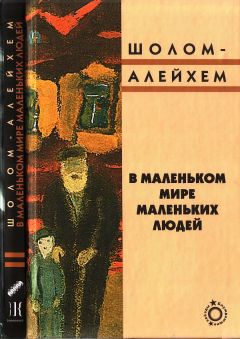Ивлин Во - П. Г. Вудхаузу: поздравление и покаяние
Ну а теперь, после сказанного, можно перейти к более приятной части моего выступления, а именно к поздравлению мистера Вудхауза с приближающимся восьмидесятилетием. Как человек на двадцать два года младше Вудхауза, я рос, озаренный его гением. К тому времени как я пошел в школу, все уже зачитывались его книжками; хорошо помню, как мой старший брат изображал Псмита. У меня одно время было полное собрание всех его сочинений, теперь, увы, частично разворованное. До сих пор я с неизменным предвкушением жду каждой новой его книги. И это не просто увлечение одинокого чудака — нас таких тысячи!
Первое, что приходит на ум, когда говоришь о творчестве П. Г. Вудхауза, это его общечеловечность. Обычно комедия долго не живет: мало что из написанного — кроме разве политической заказухи — бывает столь сиюминутно. Однако Вудхаузом зачитываются вот уже три поколения: в молодости он скрашивал мистеру Асквиту[7] минуты отдыха от государственных забот, а сейчас я вижу, как мои дети трясутся от хохота над теми же книгами. Вудхауз удовлетворяет и самый неприхотливый, и самый изысканный литературный вкус. Беллок, к полному недоумению Хью Уолпола, во всеуслышание объявил Вудхауза лучшим писателем современности[8]; Рональд Нокс, начитаннейший человек и тончайший стилист, восторгался им. И в то же время переводы Вудхауза чрезвычайно популярны среди норвежцев — народа, еще не выработавшего собственного литературного языка и, как они сами признают, не очень вникающего в тонкости диалогов, — они любят Вудхауза за его сюжеты. Известно, насколько привередливы в юморе американцы, которые меняют стиль своих шуток так же часто, как обои в квартире, — но и они продолжают читать Вудхауза.
В чем же секрет его бессмертия? Прежде всего, конечно, в литературном мастерстве, отточенном упорным трудом. В этом смысле он полная противоположность, например, спонтанному Рональду Фербанку, чьи непредсказуемые творения то вдруг находили горячий отклик у критики, то оставались в тени. Вудхауз с титаническим усердием кроит и перекраивает сюжеты. Может быть, мы и не узнали бы, сколько труда он в это вкладывает — он мало что из своей жизни выносит на всеобщее обозрение, — если бы в 1953 году, с одобрения Вудхауза, его школьный друг Уильям Тауненд не опубликовал их переписку, превратив ее в замечательную книгу «Цирковая блоха». Переписка охватывает тридцать лет творческой жизни Вудхауза и раскрывает перед нами его художественный метод. В ней мы видим человека, сосредоточенного — можно даже сказать помешанного — на выстраивании сюжетов.
Большинство из нас наслаждается книгами Вудхауза в первую очередь за их изумительный язык, но для самого автора язык, оказывается, был делом второстепенным. Либо владение словом пришло к нему само собой — необъяснимый дар, подобный знаменитым полетам Нижинского[9], — либо в этом отношении он был настолько уверен в себе, что ни о каких затруднениях не сообщал. Из его писем выходит, что он работал именно над тем, ради чего его сейчас читают норвежцы, — над сюжет ом.
Он много писал для театра и привык мыслить произведения как последовательность сменяющих друг друга действий. Каждый выход героя на сцену и уход с нее должен быть тщательно продуман. В письме 1924 года он говорит: «Я смотрю на своих героев как на живых, оплачиваемых актеров… А крупные актеры не потерпят, чтобы их выводили на сцену, только для того чтобы подыграть второстепенным персонажам, — и я не думаю, что это от тщеславия… Они сопротивляются, потому что это нечестно».
А в письме 1937 года он рассказывает:
Кажется «Сатердей ивнинг пост» покупает мой роман[10], но в редакции просят сократить начало. «Слишком много пауз. Несценично», — говорит Брандт[11]. И когда я начал перечитывать роман, я понял, что они правы. Вот как у меня развивался сюжет: 1) Берти навещает тетю Далию; 2) она поручает ему купить цветы для больной тети Агаты; 3) Берти возвращается в свою квартиру, звонит тетя Далия и говорит, что забыла сказать ему еще об одном деле, для которого надо будет зайти в антикварную лавку; 4) Берти идет купить цветы и попадает в передрягу; 5) он возвращается к себе и плачется Дживсу в жилетку; 6) потом он идет в антикварную лавку и снова попадает в передрягу. И представляешь, я ведь раз двадцать все это переписывал и только сейчас понял, что надо было сделать так: 1) Берти навещает тетю Далию, и она посылает его в антикварную лавку; 2) Берти идет туда и сначала играет в сцене, которая должна была произойти в цветочном магазине, а потом в той, которая предназначалась для антикварной лавки. Это экономит мне пятнадцать страниц, и ничего важного не теряется. Не правда ли, ужасно делать такие ошибки, когда вот уже тридцать семь лет работаешь писателем? Никак не могу себе объяснить, зачем я тащил Берти в квартиру, где ровным счетом ничего не происходит. На переписывание ушло пять дней напряженной работы.
Это письмо — типичный пример не только трудолюбия великого мастера, но и его скромности. Писатели обычно люди избалованные и обидчивые, они не любят критику, а тем более чьи-нибудь указания. Вудхауз не очень-то жалует профессиональных критиков и правильно делает, поскольку, как я убедился на собственном опыте, его книги практически невозможно рецензировать. Можно написать целую диссертацию о его замечательной писательской манере, но мало что можно сказать об очередной его книге, кроме как разве что радостно огласить факт ее появления.
Славу Вудхаузу создали не критики, а сами читатели. Но Вудхауз — профессионал, который старается удовлетворить своих клиентов, а клиентами он считает тех, кто выписывает ему чеки, то есть редакторов и издателей. Это скорее американский, чем европейский подход: мы, европейцы, смотрим на редакторов и издателей как на неизбежных — хоть часто и довольно милых — посредников между нами и читателями. Мы привыкли сами заботиться о своей репутации. А американские редакторы считают себя работодателями, и из-за этого возникает много острых конфликтов, когда писатели из Европы хотят напечатать свои произведения в Новом Свете. Вудхауз никогда не жаловался на то, что в Европе считалось бы редакторским произволом. Напротив, он полагал, что американские журналы выигрывают перед европейскими как раз благодаря властному вмешательству редакторов:
Практически каждый английский журнал готов купить любую чепуху, лишь бы ее написал какой-нибудь известный писатель. «Сатердей ивнинг пост» был чертовски хорош, потому что с Лоримером[12] такой номер не проходил… Босс, конечно, был тираном, но, Господи, какой же он был толковый редактор! Он всех держал в ежовых рукавицах. У меня там по частям вышел двадцать один роман, но я никогда не чувствовал уверенности в том, что мой очередной роман будет опубликован, пока не получал телеграмму со словами, что его одобрил Лоример.
В своей переписке Вудхауз предстает скорее трудолюбивым ремесленником, а не прирожденным художником. О его стиле (в противоположность работе над композицией) лишь мимоходом упоминается в письме 1946 года, где, жалуясь на сбавившийся к старости темп, он говорит: «Я замечаю, что у меня появилась привычка, написав смешную фразу, добавить для пояснения другую, хотя она совершенно не нужна. Я ежедневно перечитываю то, что написал, постоянно натыкаюсь на эти лишние фразы и нещадно их вымарываю». Но секрет волшебства — как получаются смешные фразы — Вудхауз не раскрывает.
Как видно из процитированных мною отрывков, стиль вудхаузовских писем заметно отличается от стиля его художественных произведений. Я думаю, его изумительная дикция, столь же естественная, как пение соловья, свидетельствует об истинном поэтическом вдохновении. Сомневаюсь, что сам Вудхауз знает, откуда это берется и как у него это получается; где бы он ни был — в роскошном гостиничном номере или в тюремной камере — он способен отгородиться от всего и писать словно под диктовку своего ангела.
Можно с точностью датировать, когда его впервые осенил священный огонь. Это произошло в середине романа «Майк», изданного в 1910 году. Коллекционеры дорожат самыми ранними книгами Вудхауза, но по ним совершенно невозможно угадать масштаб его дарования. А потом, в 31-й главе «Майка», выходившего в журнале «Капитан» и начинавшегося как забавная, но вполне обыкновенная школьная проза, вдруг появляется Псмит, и вспыхивает пламя, которое горит — все ярче и ярче — вот уже полвека. Псмит — не самое выдающееся детище Вудхауза, но зато самое первое, и охота за испачканным ботинком, которую ведет мистер Даунинг в 49—51-й главах «Майка», стала одной из лучших сцен в юмористической литературе. Интересно, понимал ли тогда сам Вудхауз, что он перешел таинственный Рубикон?
Подозреваю — хотя, конечно, сам от него этого не слышал, мы не настолько хорошо знакомы, — что знаменитая скромность Вудхауза объясняется не только его замечательным характером, но истинным непониманием своего превосходства над другими писателями из «Сатердей ивнинг пост», которых тоже «одобрил Лоример». Мне кажется, он сам не отличает своих искусственных персонажей, вроде Акриджа, от вдохновленных гением, вроде Берти Вустера. Наверное, в том и суть вдохновения, что писатель не знает, как оно работает. Думаю, Вудхауз до сих пор не может объяснить себе, за что так благоговеют перед ним ценители английской прозы. Он совершенно растерялся, когда ему присуждали почетную докторскую степень в Оксфорде — настолько, что потом даже путался, вспоминая, в Оксфорде это было или в Кембридже. Когда Шон О’Кейси назвал его цирковой блохой английской литературы, Вудхауз сказал: «Я принимаю это как комплимент: все цирковые блохи, которых мне доводилось видеть, поражали меня своим артистизмом, безукоризненной техникой и еще чем-то неуловимым, без чего не бывает хорошего актера», — и даже использовал фразу О’Кейси как заглавие книги, отрывки из которой я цитировал. Но восхищаемся мы им не за то, что он «хороший актер», не за «артистизм» и даже не за «безукоризненную технику», а за «что-то неуловимое», без чего не бывает хорошего поэта и от чего, если воспользоваться знаменитым образом Хаусмена, аж волоски на щеках во время бритья встают дыбом[13].