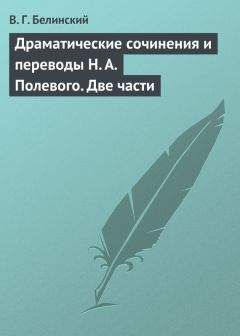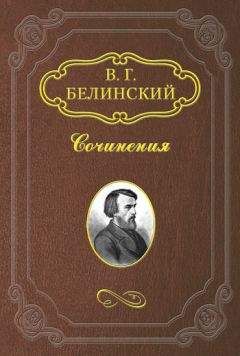Виссарион Белинский - Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого. Часть третья
Возвратимся к «представлениям» г. Полевого в изданном ныне третьем их томе.
Этот третий том содержит в себе «Гамлета» – драматическое представление Виллиама Шекспира, и «Уголино» – драматическое представление Николая Полевого. Хотя «Гамлет» только перевод г. Полевого, но и его можно счесть за сочинение, ибо сущность всякого произведения составляет его дух, а в переведенном г-м Полевым «Гамлете» Шекспира – нет нисколько шекспировского духа: переводчик заменил его собственным своим. Поэтому «Гамлет» так же точно есть сочинение г. Полевого, как и «Уголино»: в обоих один дух, одна манера, – и если Шекспир более или менее виноват в «Гамлете» г. Полевого, то он же более или менее виноват и в «Уголино»: ибо в каком отношении находится «Гамлет» г. Полевого к «Гамлету» Шекспира, в таком же точно отношении находится «Уголино» г. Полевого к «Ромео и Юлии» Шекспира… Многие считают это отношение весьма похожим на отношение пародии к оригиналу… Мы сказали, что сущность всякого произведения заключается в его духе, и потому должны характеризовать дух «Гамлета» и «Уголино». С этой точки зрения, оба эти произведения чрезвычайно интересны, потому что оба они – родовые, типические явления в области русской литературы.
Иные слова, по особенным обстоятельствам, получают впоследствии совсем другое значение, нежели какое имели вначале и какое назначила им выражать этимология языка. Так, например, русское слово «чувствительный» сперва означало человека с чувством, с душою; следовательно, оно имело похвальное значение. Но сентиментальность, овладевшая нашею литературою и нашим обществом в конце прошлого и начале текущего столетия, дала слову «чувствительный» ироническое значение, так что теперь говорят «человек с чувством» и уже не говорят «чувствительный человек», ибо последнее означает слезливого воздыхателя, аркадского пастушка в соломенной шляпе, с розовыми лентами на груди, – лицо, некогда известное в русской литературе под именем Эраста Чертополохова[7]. Таким же точно образом у немцев выражение «прекрасная душа» (schone Seele) и произошедшее от него неловкое в русском переводе слово «прекраснодушие» (Schoneseelichkeit) получили, в последнее время, совершенно противоположное значение. Слово «прекрасная душа» у немцев выражает собою понятие о тех слабых и поверхностных характерах, которые исполнены энтузиазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могут понять хорошенько, в чем состоит и что такое это «высокое» и «прекрасное», от которого они всегда в таком восторге. Сердце у этих людей действительно доброе, ума в них также отрицать нельзя; но они лишены всякого такта действительности. Они узнают высокое и прекрасное только в книге, и то не всегда; в жизни же и в действительности они никогда не узнают ни того, ни другого и от этого скоро во всем разочаровываются (любимое их словцо!), холодеют душою, стареются во цвете лет, останавливаются на полудороге и оканчивают тем, что или (и это по большой части) примиряются с действительностию, какова бы она ни была, то есть с облаков прямо падают в грязь; или делаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно они смешны и жалки в том и другом случае; но в первом они бывают иногда уж и не жалки, а скорее страшны своим примирением с действительностию…[8] Не разочаровываться им невозможно: ибо у них идеал не имеет ничего общего с действительностию и не способен к осуществлению на деле. Если этот идеал – дева, то непременно неземная, которая не ест, не пьет и не хворает, питаясь одними высокими чувствами, любовью, восторгом, вдохновением и пр. И потому в девах они наиболее разочаровываются: неспособные понять и оценить ничего, что просто, без претензий и без эффектов, прекрасно, они всего чаще привязываются к ничтожным созданиям – и умножают число несчастных браков по страсти. Если этот идеал – друг, то горе ему: самолюбие – болезнь «прекрасных душ» потребует от него, чтоб он отказался от себя и беспрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдал бы его страданиями, радовался его радостями, а о себе не думал бы вовсе: в противном случае он – эгоист, холодная душа, разочарователь. Идеал блаженства любви «прекрасных душ» – пустыня вдали от людей, природа, прогулки при луне, вздохи, поцелуи и – больше всего – совершенное бездействие. Они вечно стремятся туда, а здесь недовольны всем: люди их не понимают, жизнь для них пошла, ибо в ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и труд. Труда они не любят в особенности: в нем так много прозы, а они хотят дышать одною поэзиею.
Но чтобы сделать верный очерк того, что немцы называют «прекрасною душою», нужна целая статья. Итак, удовольствуемся одним намеком: догадливые поймут нас. У нас были попытки ввести в употребление слово «прекраснодушие», которые остались тщетными, и по справедливости: у немцев это слово получило такое значение через развитие самой общественности, так же как у нас слово «чувствительный». Мы думаем, что слова «романтик» и «мечтатель» довольно близко подходят под значение немецкого выражения «прекрасная душа» (schone Seele). Кто хочет познакомиться с характерами и натурами романтиков и мечтателей, – тем рекомендуем из романов г. Полевого «Аббаддонну», а из повестей в особенности – «Живописца», «Блаженство безумия» и «Эмму»: это тонкие, злые картины и очерки романтиков и мечтателей. Но всех их выше – «Гамлет» и «Уголино»: это просто сатирическая апофеоза романтических душ и мечтательных характеров. Мы не будем распространяться в доказательствах: перечтите в «Уголино» сцены любви между Нино и Вероникою, – и вы сами увидите, что улика налицо. Одна уже мысль – жить в пустыне аркадскими пастушками, занимаясь одною любовию, – в высшей степени «романтическая» и «мечтательная»…
Уединенное место в Апеннинских горах; кое-где хижины пастухов; направо красивый домик; налево дерновая скамья. Нино и Вероника, в крестьянском одеянии.
Вероника. Я принесла тебе завтрак, милый Нино! Извини: не мастерская работа, но я сама пекла этот хлеб, мой милый друг!
Нино. А я кончил мою работу и жду твоего поцелуя. Посмотри – ведь и это не мастерская работа, но я сам плел эту корзинку!
Вероника. Какая миленькая! А! ты заслужил поцелуй! (Целует его.)
Нино. И только?
Вероника. Какой прихотник!
Нино. Я не требую, а умоляю!
Вероника. Так разве так умоляют? Вы, синьор, слишком горды для роли нежного любовника! Но я вас прощаю. – Вот вам награда… Довольно, довольно!
Нино. Вероника! счастлива ли ты?
Вероника. Ах, Нино, тебе ли спрашивать!
Нино. Знаю, и все еще сто раз в день хотелось бы мне спросить у тебя – слышать от тебя беспрестанно!
Вероника. На что слова, милый друг?
Нино. Неужели ни разу не пришла тебе мысль о прошедшем, ни разу не взволновалась грудь твоя вздохами сожаления?
Вероника. О чем же, милый Нино?
Нино. О том, что было, о том, что ты для меня оставила, бросила, презрела…
Вероника. Я не знаю, что такое прошедшее. Да разве я оставила что-нибудь? Мне кажется, что я родилась только тогда, когда мы переселились сюда с тобою. Было что-то прежде… я не помню…
Помню я одно – тот вечер, дивный вечер,
Когда последний солнца луч цветные стены храма
Раззолотил и, по стенам сверкая, догорая,
На сводах и столпах, как радугой, блистал.
Там, близ алтаря, был юноша прекрасный,
Мой Нино был там – он молился,
Он ангелом прекрасным мне казался,
Он не видал меня, но мне с тех пор,
Как призрак милый счастья, он остался —
Его мечтала голос слышать я,
Его искала и – нашла его – он мой!
Он не диким мне воителем,
Не в турнирах победителем —
Он мне странником предстал смиренным,
И – его узнала я!
Он так смело стал перед людской толпою,
Он сказал ей, изумленной, будто божьим громом:
Она – моя!
Вот все, что было для меня… Ах, да уж сколько раз пересказывала я тебе об этом!..
Нино (обнимая ее). Мечтательница!
Вот видите – и добрались до первого и последнего слова, до альфы и омеги этой апофеозы пряничной любви «мечтателей»! Да этот Нино с своею Вероникою просто – Манилов с своею супругою: он держит в руке конфетку и говорит супруге: «Разинь, душенька, ротик, я тебе положу этот кусочек»…
Право, об «Уголино» больше нечего говорить, особенно говорить серьезно…
Что касается до «Гамлета», то достоинство его как перевода вполне оценено великим знатоком Шекспира, покойным профессором Харьковского университета И. Я. Кронебергом[9] и, в другой статье, сыном его, А. И. Кронебергом[10]. Но нет худа без добра: из перевода вышло сочинение г. Полевого, и это послужило к успеху пьесы на нашей сцене, где Шекспир так, как он есть (не обсахаренный и не рассыропленный), еще недоступен. Но зато некоторые потому только и прочли превосходный перевод «Гамлета» г. Вронченко и поняли его, что видели на сцене «Гамлета» г. Полевого… И то заслуга!»[11]