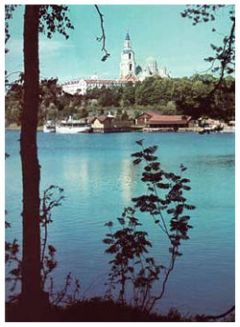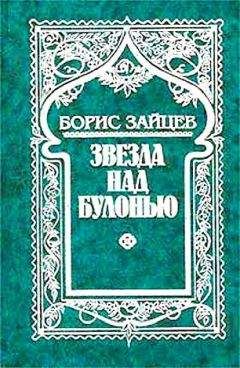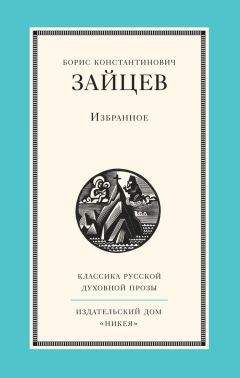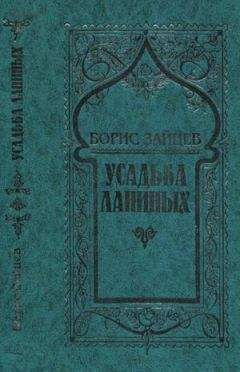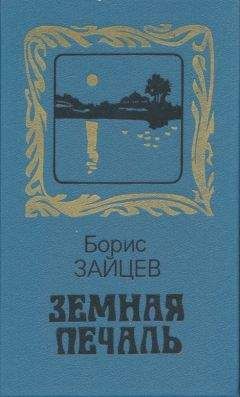Юлий Айхенвальд - Борис Зайцев
Есть, есть прирожденная святость сердца, первоначальная чистота души. А та земная пыль и нечисть, которая на белые обители духа налетает в изобилии от трудных жизненных дорог, да не будет нам поставлена в вину! «Господь смилуется над нами и простит». К тому же, если Юпитер сердится на нас, то мы не без основания думаем, что он виноват; он тоже виноват. Не только Юпитер нас прощает, но и нам есть за что простить Юпитеру. Чувство ответственности, ощущение вменяемости, конечно, сопутствуют нам; но в то же время нельзя отрешиться от мысли, что «все мы – точки гигантской ткани; кто-то ее прядет, и мы образуем узоры, складываемся так, вот этак, набегаем друг на друга, перекрещиваемся». Может быть, эти слова Евгения из «Усадьбы Паниных» соответствуют не столько объективной сути миропорядка, сколько общей созерцательности самого Зайцева; может быть, человек действеннее и самостоятельнее, чем типичные пассивные герои нашего писателя; но едва ли и самый энергичный деятель не чувствует себя в иные моменты этой зайцевской «точкой гигантской ткани» и не перелагает ответственности с себя на Ткача… Как раз эти моменты и подслушивает в человеческой душе Борис Зайцев.
Жизнь, «настоящая вечная жизнь» нередко рисуется ему как облака, которые плывут и тают. Жизнь в том и состоит, что она проходит. Ее сущность – отсутствие сущности. Ее не уловишь, не задержишь, не обратишь ни во что прочное. «Так истает и уйдет в конце концов вся жизнь. Вся она обратится в облачко, сольется с голубым эфиром, из которого и возникла». Неизвестно куда, неизвестно зачем по миру идут вечные странники, под облаками, которые тоже куда-то идут, прообразы человеческих дней, и на горизонтах вечности образы людей, бренные силуэты, маячат проходят, исчезают, и велел зя отошедшими быстро умолкает скудный лепет наших эпитафий.
Но пусть неведом и невидим для нас таинственный смысл нашей призрачной жизни, сердце все-таки верит в него и верит в значительность и реальность каждой человеческой тени.
Вот умер лишний как будто бы, ненужный человек, с бездомной душою. Но слова, которыми Зайцев сопровождает его смерть, внутренним светом освещают и его жизнь. «Он ушел от нас навсегда. Его смерть мы приняли. Мы не могли бы сказать, каково было значение, смысл жизни этого человека, столь мало сделавшего на своем веку, столь как будто ненужного. И тот, кто уверен про себя, что он необходим человечеству, тот, кто знает, что он очень умно и значительно прожил свою жизнь, – пусть тот и укорит отошедшего».
Подобные ноты смирения и спокойствия, примирения с миром и человеком, светлые и печальные, так характерны для Зайцева. И соответствует им внешняя форма его рассказов – легкая, сквозистая, глубоко искренняя, в позднейших произведениях – невозмутимая, законченная и простая, как светлые примитивы. Часто его фраза не отделана, не округлена и так выразительна в своей естественной неправильности, в своей жизненной бессвязности. Отдельные эпитеты Зайцева спорны; но даже в его вычурах, в словах, ему одному принадлежащих («запрозрачнело», «влажнела», «светло-летящий голубь», «смотреть длинно»), не чувствуется литературы, – это не манерно, не придумано, это сказалось само собою; и всегда он как-то так скажет, по-особому, что непременно взволнует: «легкие стада детей чище и изящнее», «светло опустошенная», «зеленая звезда отроческой любви», «над горизонтом мерцали плеяды, таинственные группы небесных дев». И порою в этих немногих словах дается большая психология, видны человеческие дали; по одному признаку, по нескольким штрихам воспроизводится вся душа и вся ее обида: незадачливый, бесталанный актер говорит о себе: «Человеку сорок два, он один, как карандаш, живет в отеле, в меблированных комнатах»; или характеризует себя Марианна: «Вы целуете меня, как девочку (она засмеялась), а мне уже за тридцать. Я старая женщина, желтая, замученная», – и вот перед вами нарисовался весь облик страдания и женской жизни. Или – Мари с большими темными глазами на бледном лице: «часто производила она впечатление, будто у ней жар». Или про слова любимой женщины говорит герой: «Если бы я мог собрать их, как слезы или драгоценности, я бы их зашил в ладанку и носил на груди, вечно». Марианна вытянула по столу светлую руку, и казалось, что рука у нее «сквозная» и что вся она вообще устроена «облегченней, светлей» других. Именно таким облегченным является и сам писатель, сам создатель Марианны – Борис Зайцев. Под его пером исчезает обрюзглость быта и давление вещей. Легче весит жизнь, когда он кладет ее на свои писательские весы. От этого не уменьшается ее внутренняя вескость, ее интимная серьезность, но прозрачнее, светлее, воздушнее становится весь ее облик и вид. И так понятно, что полюбился Зайцеву образ божественного Рафаэля, блаженного умиротворителя Санцио, чей дух и чья плоть, чье христианство и чье язычество соединились в одну почти невесомую сущность. Светится автор «Рафаэля» внутренним светом своего идеализма, у него легкая душа, у него – художническое простодушие, и это позволяет ему жить во имя прекрасного, тонко замечать солнце, сердце и всю природу – «бледно-персиковые ковры», которые проводит по морю рассвет, и «черные складки ночи», в которых бродят губящие и гибнущие люди, и «кристальное благовоние, воздух, как бы сгустившийся в дивный зимний напиток».
Однотонен Зайцев, иногда – малокровен, и нет фабулы в его рассказах, нет «содержания», но там и здесь разлиты по ним «сладостные и очаровательные капли поэзии», но есть в них тихая и подлинная поэзия, переливы настроений, неуловимая отрада и красота. Он любит звезды, «золотую славу мира», звезды, которые «никогда не надоедают»; он о луне, будто Франциск Ассизский, говорит: «сестра-луна», и влечет его «голубая Вега, давно любимая звезда», как и все голубое, лазурное, синее, подобное той морской синеве, на которой – «как обрывки мечтаний, паруса рыбацких судов». У него пленительные чертоги сердца; он – псалмопевец человеческой души, Давид, выступивший со своею арфой против гиганта злобной мировой действительности. Ужасу и драме он, в светлых ризах, противопоставил себя, свою лучезарность и тихость. Это не прекраснодушие, это именно «спокойствие», уверенность в святости и счастливости человека. Правда, не чувствуется, чтобы спокойствие это и благостная умиротворенность достались ему трудно, куплены были тяжелой ценою пережитого глубокого трагизма. Все, что от Беги, от голубого, хорошо у Зайцева; но, быть может, он слишком скоро приходит в обитель примирения, он слишком скоро «утопает в сиянье голубого дня», он мирится раньше, чем его читатель. И недаром (в «Изгнании», в «Дальнем крае») без страсти и потрясения совершается у него бесшумный исход от жизни суетной или мятежной к мудрости Евангелия.
* * *Прекрасное дитя вдохновения, искренних и простых помыслов – «Сны» Бориса Зайцева. В своем обычном стиле, внутренне сочетающем объективность и лирику, самый неприкрашенный реализм и душевную романтику, юмор и глубокий восторг перед природой и любовью, в тонах своего неизменного «спокойствия», изображает автор швейцара Никандра, который отворяет и затворяет двери, пропуская в них обрывки чужих жизней – как ему кажется, светлых, чистых, счастливых. Раб дверей, на страже у них, он сам не живет, а пребывает где-то внизу, в грубости и грязи, и гнетущая тоска проникает в его смутное сердце. Он пробует залить ее вином, но это ему не удается; пробует утопить ее вместе с собою в реке, – но и это не удалось. Как луч из мира иного, того мира, в который Никандр только отворяет двери, сияет ему женщина Мариэтт, пахнущая духами, – у нее темные глаза, «напитанные счастьем», черные завитки волос, «белая рука с длинным ногтем на мизинце и на шее алмазная стрела, пронзающая». Эта стрела из обители прекрасного пронзила Никандра. Сказать, что он влюбился в Мариэтт, было бы пошло, и это было бы не то. Произошло какое-то «касание мирам иным». Когда приближается к швейцару Мариэтт, он уже чувствует себя не швейцаром Никандром, он преображает все – и себя, и мир, потому что и она преображает и властвует. Он стоит перед ней и прибивает гардины. «Крюки вбиты неправильно, – говорит он глухо. – Немного не приходится». Мариэтт смотрит: «Придется. Мариэтт говорит не зря. Она бледна и думает о другом, но наверно знает, что придутся какие-то бедные крюки, которые так далеки от ее молодой жизни, блистательной, победоносной. Конечно, придутся! Как он мог думать иначе? Ударил несколько раз молотком сбоку, погнул, портьера повисла мягко и покорно».
Эта чудная нежность и тонкость изображения, это понимание Никандра с его, самому ему непонятной, тоскою по черным глазам Мариэтт, по ее рукам, которые, «две легкие птицы», лягут на плечи кого-то «счастливейшего», – это производит в рассказе Зайцева впечатление волшебства, сказочного сна, и точно видишь перед собою тот солнечный ореол, который в благословенной игре своей озарил вместе, сблизил в великом равенстве своего золота далеких друг от друга Никандра и Мариэтт. Кто молится ей, Зайцев или Никандр, кто говорит эти слова: «Мариэтт, Мариэтт! Вы не знаете пьяных ночей, грубой сволочи, кабаков, участков, боли дикой. Вы цветете в тишине, вы гиацинт за стеклом, ваши стройные ноги попирают землю легко: как триумфаторы прекрасного. Вот вы мелькнули в прихожей, блеснули, и поплыла ваша прелесть дальше, навстречу весне, природе, чудесному, чего вы на земле являетесь носительницей»? Это, несомненно, говорят общечеловеческие уста, это говорит в Никандре его возможное, тот потенциальный поэт, который не заглушен в нем его безобразной долей, его службой у дверей, в преддверии жизни, и которого подслушал в нем чуткий Зайцев. Пусть, когда Мариэтт уехала в Париж, туда, к Люксембургскому саду, где шумят каштаны и играют дети, пусть Никандр после этого кошмарно «гулял» с проституткой и оскорбил, осквернил свои чистые миры – все равно в глубине его души, как в глубине реки, жила она, Мариэтт, светлая, благоухающая, с руками легкими, как птицы, и вместе с нею жило счастье. Правда, она может, Мариэтт, уйти из этой глубины, и суетный ветер жизни уйти навсегда ее счастливый образ, – но той поэзии, которая есть в Никандре, не сотрет никакая сила.