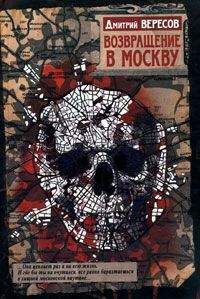Константин Азадовский - Об одном стихотворении и его авторе
Между тем редактура такого рода — пусть даже с согласия и при участии автора — лишила «Артиллерию» главного ее достоинства: искренности. Тогда, в 1946 году, Левину удалось передать в своем стихотворении ощущение многих тысяч фронтовиков. Общее ликование, охватившее страну-победительницу, и еще не остывшая скорбь по погибшим соединяли тогда, казалось, верх и низ государственной пирамиды: рядового и Генералиссимуса, простого солдата и Самого… Конечно, вершиной в этой картине мира мог оказаться только один человек, и не удивительно, что его образ, венчающий стихотворение, звучит как апофеоз! Так воспринимало Сталина поколение «выживших», к которому принадлежал и Левин. Правда поэзии и правда истории не всегда совпадают; подчас они и вовсе несовместимы.
И тем не менее нельзя не признать: монументальный образ Вождя, созданный Левиным, не вполне и не слишком ясно очерчен; в нем чувствуется недосказанность. Таким же смутным было, вероятно, и восприятие Великой Победы — во всяком случае, у автора «Артиллерии», чутко уловившего в послевоенной Москве начавшееся разделение «единого советского народа» на участников войны и ее «мемуаристов», на «своих» и «чужих»… Искалеченные войной фронтовики, уже чувствуя свою «ненужность», о чем позднее напишет Б. Слуцкий («Когда мы вернулись с войны, / Я понял, что мы не нужны»[10]), все же надеялись на признание своих заслуг и, не раз обманутые, искренне верили, что это признание можно получить только от самого Сталина. Автор как будто разделяет их веру. Но в финальных аккордах все же сквозит сомнение, еще неясное, возникающее исподволь, интонационно. Скорбь о принявших смерть (один из главных мотивов военной лирики Левина) усугубляется глубоко запрятанным разочарованием. Все это делает «Артиллерию» (разумеется, в ее первоначальном, подлинном виде) непреходящим поэтическим свидетельством эпохи.
Сталинская тема воплотилась в советской поэзии не только откровенно фальшивыми славословиями. Наряду с ними осталось и несколько ярких произведений; достаточно вспомнить мандельштамовскую «Оду» или «Горийскую симфонию» Н. Заболоцкого. Что делать? Завораживающее, гипнотическое воздействие Сталина на наших соотечественников (оно не преодолено и поныне) — исторический факт, и не следует думать, что поэты, пусть даже самые замечательные среди них, могли противостоять всеобщему ослеплению. Особенно в 1930-е и 1940-е годы.
Под стихотворением Левина — в том виде, как оно появилось в 1986 году, — стоят две даты: 1946 и 1984. Те же даты — в публикации Евтушенко. Вероятно, «улучшать» стихотворение, по совету своего младшего и более успешного современника, Левин принялся уже в тяжело больном состоянии: последние годы жизни, как сообщает В. Корнилов, он страдал от рака грудной железы и умер от этой болезни.
«Литературная судьба Константина Левина совершенно уникальна»[11]. И глубоко драматична. Солдат, потерявший на войне ногу, студент Литинститута, он был подвергнут в 1949 году унизительной — в духе того времени — проработке за свои стихи и затем исключен.
В. Корнилов вспоминает также, что причиной травли Левина в Литинституте послужило стихотворение «Мы непростительно стареем…»[12]. Однако М. Дорман полагает, что это было стихотворение «Нас хоронила артиллерия…»[13]. Свидетельство Дормана совпадает с рассказом Б. Сарнова о вечере, на котором Левин читал «Артиллерию». «Стихи эти ошеломили меня, — вспоминает Сарнов. — Они резко выделялись на фоне всех других, читавших в тот вечер». После этого вечера, продолжает Сарнов, и стихотворению, и его автору был вынесен «приговор»: «“Противопоставление фронта тылу”. Противопоставление, понятное дело, недопустимое и даже кощунственное»[14].
Впрочем, и утверждение Корнилова, на наш взгляд, не беспочвенно. Стихотворение «Мы непростительно стареем…» вполне сопоставимо с «Артиллерией» (в плане возможных в то время негативных последствий для его автора, студента Литинститута). Приводим первую строфу этого стихотворения:
Мы непростительно стареем
И приближаемся к золе.
Что вам сказать? Я был евреем
В такое время на земле…[15]
Восстанавливая «несколько запавших в память строф» этого стихотворения, Корнилов замечает: «Кроме меня, их вряд ли кто помнит»[16]. Но они наверняка запомнились и другим слушателям; во всяком случае, цитируются и поныне. Четыре приведенные выше строки Б. Сарнов поставил даже эпиграфом к одному из разделов своих мемуаров (глава «Я был евреем»).
После вмешательства то ли А. Суркова, то ли К. Симонова Левин был восстановлен и закончил Литинститут. Всегда нуждавшийся и никому не нужный, служивший долгие годы «литконсультантом», Константин Левин — один из тех, кто не сумел (скорее, не смог) подстроиться под свое время, требовавшее нравственных и творческих уступок. Его поэтический голос захлебнулся уже в 1940-е годы («В нем что-то сломалось»[17], — замечает В. Корнилов). «Костю за это стихотворение топтали так долго, — вспоминает, рассказывая об «Артиллерии», Б. Сарнов, — и с таким садистским сладострастием, что в конце концов переломали-таки ему спинной хребет. Со стихами он “завязал” <…> Так, во всяком случае, отвечал он на не слишком деликатные вопросы всем, кто интересовался его новыми творческими достижениями»[18].
А, может, это был сознательный выбор? Горестные мотивы «отказа» и «поражения» слышатся в стихах Левина уже в 1945–1946 годах:
И мальчик, который когда-то видел себя Заратустрой,
Метил в Наполеоны и себялюбцем был,
Должен сейчас убедиться — как это ни было б грустно, —
Что он оказался слабее истории и судьбы.
То же настроение звучит и в стихотворении 1969 года: «Я давно из игры из большой выбыл».
Печать разочарования и скорби лежит почти на всей поздней лирике Левина (он продолжал писать стихи вплоть до начала 1980-х годов). И хотя в целом эти произведения значительно слабее, чем ранние, но встречаются и среди них пронзительные строки — такие, например, как в стихотворении «Памяти Фадеева»:
Ведь был он лучше многих остающихся,
Невыдающихся и выдающихся,
Равно далеких от высокой участи
Взглянуть в канал короткого ствола[19].
Константин Левин распорядился своей жизнью иначе, чем это сделал Фадеев: он прожил ее в безвестности, не унижаясь, не подлаживаясь, не выклянчивая. Он не желал быть «советским поэтом». «…С начала пятидесятых годов, — сообщает рецензент книги “Признание”, — Левин никуда уже не обращался, не принимал предложений друзей, известных поэтов, помочь ему. Но это, как понятно теперь, не было проявлением слабости. Левин писал, не угождая никому, так, как считал нужным»[20].
К началу перестроечной эпохи его помнили уже совсем немногие. Показательно, что даже люди, хорошо его знавшие, не могли припомнить его отчества. Евтушенко в огоньковской публикации называет его Константином Яковлевичем; в книге «Признание» приводится — со ссылкой на К. Ваншенкина — другое отчество: Львович; наконец, согласно М. Дорману, Левина звали Константин Ильич.
Но именно та, казалось бы, скромная и незаметная участь, какую сознательно выбрал для себя Константин Левин, дает ему право на особое и весьма достойное место в подлинных — не евтушенковских — «Строфах века». А его стихотворение 1946 года, истинный шедевр нашей послевоенной поэзии, заслуживает, по крайней мере, того, чтобы его печатали в первоначальном и полноценном виде.
Конечно, восстановить это стихотворение в его «аутентичной» редакции — задача трудновыполнимая: оно расходилось в машинописных и рукописных копиях, запоминалось и передавалось изустно, и при этом, разумеется, что-то неизбежно терялось или искажалось. Трудно также полагаться на память институтских товарищей Левина. Б. Сарнов, например, утверждает, что хорошо запомнил некоторые строки этого стихотворения, и «дословно» воспроизводит их спустя полвека, «словно услышал их только вчера»[21]. Между тем приведенные им строфы полностью совпадают с текстом, который стал публиковаться начиная лишь с 1986 года — вряд ли именно так звучали эти стихи осенью 1947-го на памятном поэтическом вечере в Литинституте.
Единственное, что могло бы, на наш взгляд, прояснить до известной степени вопрос об «аутентичности», — это рукописи самого Левина, если они сохранились, или записи, сделанные другими современниками «по свежим следам». Возможно, они и найдутся. Приходится терпеливо ждать: восстановление разрушенного, да еще объявленного «улучшенным», — хотя и благородное, но, как видно, долгое дело.