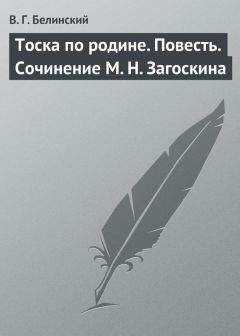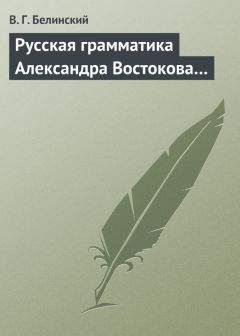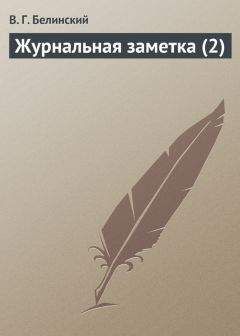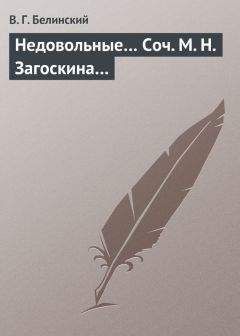Виссарион Белинский - Кузьма Петрович Мирошев. Русская быль времен Екатерины II
Итак, достоинство Сервантесова романа – в идее: идея сделала его вечным, никогда не умирающим и никогда не стареющимся поэтическим произведением. В идее заключается причина того, что, несмотря на испанские имена, местность, обычаи, частности, – люди всех наций и всех веков читают и будут читать «Дон Кихота». Что же касается до испанского колорита и событий, характеров и лиц – этот колорит свидетельствует, что идея «Дон Кихота» – живая, воплотившаяся и обособившаяся, а не отвлеченно общая и отвлеченная идея.
Вот это-то жизненно органическое слияние общего (идеи) с особным (век, страна, индивидуальные характеры) составляет сущность и достоинство романа Вальтера Скотта. Этот великий поэт был человек, британец и баронет вдобавок: у него были свои личные понятия и понятьица, свои личные чувства и чувствованьица, национальные вражды и ненависти, народные предрассудки, что все, вместе взятое, и сгубило его «Историю Наполеона»[10]. Но он ничего этого не вносил в свою творческую деятельность и, входя в созерцание судеб человечества и человека, откладывал в сторону свою личность и свое баронетство: он хотел только приковать к бумаге видения и образы, возникавшие перед его внутренним оком, а судить, резонерствовать о них предоставлял другим. И хорошо сделал: он вообще не мастер был судить; но в творчестве был великий мастер. Потому-то романы его были зеркалом действительности, в котором она походила сама на себя больше, нежели тогда, когда оставалась бы просто действительностию. В его романах вы видите и злодеев, но понимаете, почему они – злодеи, и иногда интересуетесь их судьбою. Большею же частию в романах его вы встречаете мелких плутов, от которых происходят все беды в романах, как это бывает и в самой жизни. Герои добра и зла очень редки в жизни; настоящие хозяева в ней – люди середины, ни то, ни се. Вальтер Скотт был натуры глубокой, но спокойной и тихой, пользовался отличным здоровьем и не знал нищеты и бедности. Оттого взгляд его на жизнь весел и ясен, а романы, большею частию, оканчиваются счастливо; но, как человек гениальный, а следовательно, и уважавший свято объективную истину изображаемого им мира, он написал несколько романов, которые очень похожи на ужасные трагедии, как, например, «Ламмермурская невеста», «Сен-Ронанские воды», «Айвенго», или «Ivanhoe» (со стороны судьбы Ревекки), «Морской разбойник» (Бренда)…[11] Да, романы Вальтера Скотта потому великие произведения искусства, что они не прикрашенное и не рассиропленное, а действительное, хотя и идеальное, изображение жизни, как она есть. Только жалкие писаки подбеливают и подрумянивают жизнь, стараясь скрывать ее темные стороны и выставляя только утешительные. Но романы этих господ-сочинителей похожи на грошовые пряники, которые услаждают вкус одной черни, подонков и осадков человечества. Истина выше всего, и как ни закрывайте глаза от зла – зло от этого не меньше существует-таки. Недавно было в моде нападать на современных французских романистов за исключительно мрачный взгляд их на жизнь; но теперь порядочные люди уже не нападают на них за это, сколько потому, что эти нападки уже старая песня, столько и вследствие умной, хотя и поздней догадки, что никто не может видеть вещи иначе, как они представляются ему, и что кто не любит мрачных картин, тот не смотри на них, а писать их все-таки не мешай. Теперь эти нападки сделались достоянием меньшей литературной братии, – и боже мой! какие тонкие остроты, какие грозные анафемы бросает она на бедную французскую литературу, втайне удивляясь ей и въявь питаясь убогими крохами с ее богатого стола… Смешно и жалко!.. Как великий гений, Вальтер Скотт не мог не иметь сильного влияния на свой век и даже на людей, с которыми у него и у которых с ним не было ничего общего. Все бросились писать исторические романы, не зная истории, будучи чужды всякого исторического созерцания и взгляда на жизнь, и думая, в простоте сердца, что романы великого шотландца оттого так удались, что в них история слита с частным бытом и что им стоит только перелистовать какой-нибудь том истории Карамзина да придумать любовь, разлуку, препятствие и благополучный брак – так и они будут Вальтерами Скоттами – и разбогатеют, и прославятся. Некоторым в самом деле удалось это в карикатуре и в миньятюре. Впрочем, не должно думать, чтоб таковы только были результаты движения, произведенного Вальтером Скоттом: они были бесконечно важны во всех отношениях и для всех литератур, следственно и для нашей. Мы уже упоминали о прекрасных попытках Лажечникова и могли бы сделать еще важнейшие указания, – но это не относится собственно к роману. Любопытно было бы взглянуть, как подействовал Вальтер Скотт на большую, по числу, часть своих подражателей; но это когда-нибудь, – а теперь обратимся к романам г. Загоскина и к другим одной с ними категории.
«Юрий Милославский» был первым историческим романом на русском языке. Исторического в нем было – надо сказать правду – очень мало, если исключить собственные имена, числа и внешние события. Русские люди первой половины XVII века у него очень похожи на мужичков и бородатых торговцев нашего времени. Герой – образ без лица, не человек и не тень: его ни руками схватить, ни глазами увидеть; но что всего забавнее, этому бестелесному существу автор навязал понятия, чувства и деликатность сентиментальных героев прошлого века. Замашка – основать русский роман XVII века на любви, показывает, что автор не вник в быт старой Руси и увлекался подражанием Вальтеру Скотту. Все лица романа – осуществление личных понятий автора; все они чувствуют его чувствами, понимают его умом. Некоторые из этих лиц нравятся в чтении, потому что автор умел придать им какой-то призрак действительности, и это уменье обличало в нем прежнего драматического писателя. Особенно же нравятся эти лица тем достолюбезным добродушием, которое умел придать им автор. Познакомившись с таким лицом на одной странице романа, вы знаете, что он будет говорить и делать на другой, третьей – и так до последней, а все-таки с удовольствием следите за ним. Но герои добра и зла ужасно неудачны: мы говорили уже о самом Милославском, а теперь скажем, что и таинственный незнакомец, открывающийся потом Мининым, не лучше его; боярин Кручина и друг его сбиваются на мелодраматических злодеев… И однако ж роман произвел в публике фурор: он был первая попытка на русский исторический роман; сверх того, в нем много теплоты и добродушия, которые сделали его живым и одушевленным; рассказ легкий, льющийся, увлекательный: ничему не верите, а читаете, словно «Тысячу и одну ночь». Его и теперь можно перелистовать с удовольствием, как, вероятно, вы перелистываете иногда «Робинзона Крузое», который в детстве доставлял вам столько чистейшего и упоительнейшего наслаждения. – За «Юрием Милославским» последовал другой русский исторический роман г. Загоскина – «Рославлев». Он был повторением «Юрия Милославского»: те же лица, те же характеры, те же начала, те же достоинства и недостатки, исключая одной героини, которая сделалась виновата перед судом автора в том, что, как женщина, полюбила мужчину, не спрашивая, какой он нации. И за это автор старался всеми силами выставить ее в самом неблагоприятном свете, а героя тем паче возвеличить; но как сей великий муж был родным братом боярина Юрия Милославского, то роман и пал[12], несмотря на возгласы приятелей. Не будем и мы тревожить его праха. – «Аскольдова могила» была могилою славы автора как исторического романиста; он сам это увидел и утешился тем, что из плохого романа сделал плохое либретто для хорошей оперы[13]. Тогда он обратился к простым, неисторическим романам, в которых талант его явно попал в свою настоящую сферу, хоть и повыбился из сил, напрягая их в чуждой ему сфере, куда приманила его подражательность. Подлинно, справедливо сказано:
Гони природу в дверь – она влетит в окно!..[14]
Оставим пока романы г. Загоскина и обратимся к историческому обозрению романической деятельности другого знаменитого таланта: так требует внутренняя связь нашей статьи.
Первым романом г. Булгарина был знаменитый в русской литературе «Иван Выжигин», – это известно всей просвещенной Европе. Сатира и мораль составляют душу этого превосходного произведения; сатира отличается таким желчным остроумием, а мораль – такою убедительностию, что тотчас же по выходе «Ивана Выжигина» в России уже нельзя было увидеть ни одного из пороков и недостатков, осмеянных г. Булгариным. И не удивительно: в сатире ему служил образцом Сумароков, «гонитель злых пороков»…[15] Вторым романом г. Булгарина был «Димитрий Самозванец», который, впрочем, показал, что историческая почва нисколько не родственна таланту г. Булгарина, столь сильному и поэтическому на моральной почве. Роман пал, и только чрезвычайный успех «Выжигина» помог разойтись единственному изданию «Самозванца». В нем были все недостатки «Юрия Милославского», но не было ни тени теплоты и добродушия, составляющих неотъемлемое достоинство произведения г. Загоскина. Впрочем, г. Булгарин умел, с другой стороны, сделать свой исторический роман если не интересным, то заслуживающим неоспориваемое уважение: именно, с моральной стороны, с которой он так замечателен. Вот что сказал о нем Пушкин, прикинувшийся раз Феофилактом Косичкиным: «Что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому подобное. Г-н Булгарин наказует лица разными затейливыми именами: убийца назван у него Ножовым, взяточник – Взяткиным, дурак – Глаздуриным, и проч. Историческая точность одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова – Хлопоухиным, Димитрия Самозванца – Каторжниковым, а Марину Мнишек – княжною Шлюхиною; зато и лица сии представлены несколько бледно» (см. «Телескоп» 1831 года, ч. IV)[16]. Третьим романическим подвигом г. Булгарина был «Петр Иванович Выжигин»[17] – опять исторический роман, где Наполеон был представлен в контрасте с Петром Ивановичем и где Петр Иванович совершенно заслонил Наполеона, – что и доказало неспособность г. Булгарина живописать исторические личности, особенно такие великие, как Наполеон. Г-н Загоскин в то же время и так же неудачно изображал Наполеона в своем «Рославлеве»: чудное сходство в направлении романической деятельности обоих этих писателей!.. Тогда г. Булгарин с горя от неудачи впал в новую неудачу – написал третий и последний исторический роман свой – «Мазепу». Дружба всеми силами старалась поддержать это произведение, но и сама рушилась под тяжестию такого подвига: читатели, может быть, вспомнят ловкую статью о «Мазепе» в «Библиотеке для чтения»[18]. Тогда г. Булгарин написал «Записки Чухина», где снова, и уже навсегда, вошел в родственную его таланту сферу.