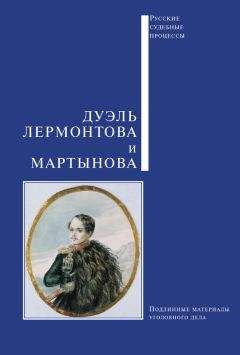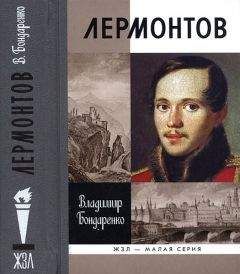Василий Розанов - «Вечно печальная дуэль»
Связь с Пушкиным последующей литературы вообще проблематична. В Пушкине есть одна, мало замеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему. Великая гармония его сердца и какая-то опытность ума, ясная уже в очень ранних созданиях, вытекает из того, что он существенно заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от Петра и до себя. Белинский не без причины отметил в колорите его и содержании элементы Батюшкова, Карамзина, даже Державина («Клеветникам России»), Жуковского; и даже есть у него кой-что из Крылова («Летопись села Горохина», «Сцены из рыцарских времен» — в конце). Страхов в прекрасных «Заметках о Пушкине» анализом фактуры его стиха доказывает, что у него вовсе не было «новых форм», и относит это к его «скромности», «смирению», нежеланию быть оригинальным в форме. Не было у него новых «ритмических биений» — внесем мы поправку к Страхову, но и сейчас же закончим наблюдения этих критиков: Пушкин не имел вообще лично и оригинально возникшего в нем нового; но все, ранее его бывшее, — в нем поднялось до непревосходимой красоты выражения, до совершенной глубины и, вместе, прозрачности и тихости сознания. Это — штиль вечера, которым закончился долгий и прекрасный исторический день. Отсюда его покой, отсутствие мучительно-тревожного в нем, дивное его целомудрие, даже и в «Графе Нулине», «Руслане и Людмиле»; «власть заклинать демонические стихии природы человеческой» — как определил Апол. Григорьев, или, точнее, как показалось и не могло не показаться этому критику. Заклинать «стихии»: о, нет! Которую же из «мучительных» стихий имел он «власть» заклясть у Гоголя? у Лермонтова? Достоевского? А они все перед ним преклонились и так готовы были бы что-нибудь из «мучительного» и «тревожного» в себе «заклясть» через него. «Хотели» бы, но не могли; и совершенно очевидно, что, дав «сюжеты» «Мертвых душ» и «Ревизора» Гоголю, — Пушкин на самый характер его творчества, дивную и властительную его «мертвенность» и «умерщвляемость» живого — не имел ни капли, ни малейшего влияния. Гоголь, да и остальные два, именно в «стихийности» своей неизмеримо властительнее Пушкина; и так «готовые» бы поддаться перед Пушкиным, подчиниться ему — не уступили ему ни пяди из личного и оригинального в себе, из того существенно «нового», что было в них и что в них единственно значительно. Итак, с версией происхождения нашей литературы «от Пушкина» — надо покончить. Далее, если мы возьмем Гоголя как второго предполагаемого «родоначальника» последующего развития, — то, конечно, напр., «Бедных людей» мы можем вывести из «поправленной» его «Шинели»[1]; но ведь не в «Бедных людях» особенное, новое, характерное у Достоевского; и что же из его «карамазовщины» мы могли бы отнести к Гоголю? К которым гоголевским фигурам могли бы приурочить длинные размышления Раскольникова, порывы Свидригайлова, судьбу Сони Мармеладовой и всю «бесовщину», включительно до «Легенды об инквизиторе», от которой этот писатель хотел освободить русское общество и не умел освободиться сам. Остановимся на Толстом. Ни у Гоголя, ни у Пушкина нет никаких зачатков размышлений раненного на Аустерлицком поле князя Болконского, истинно «стихийной» игры и сплетения страстей у Анны Карениной; ни тревог автора в «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонате», т. е. ничего именно типического и оригинального у Толстого. Напротив, оба эти писателя, и еще третий — сам Гоголь, имеют родственное себе в Лермонтове, и, собственно, искаженно и частью грязно, «пойдя в сук», они раскрыли собою лежавшие в нем эмбрионы. Это очень трудно доказать, потому что Лермонтов только начал выражаться, и показать это можно только уловляя —
В дымных тучках пурпур,
т. е. бегучие тени и полутени роднящих настроений:
Но я без страха жду довременный конец:
Давно пора мне мир увидеть новый…
— это тревога Лермонтова, почти постоянное его чувство, вызвавшее чрезвычайно много новых «ритмов» в его поэзии. «Есть миры иные», — тревожно сказал Достоевский, устами старца Зосимы, в «Братьях Карамазовых»; «есть мир иной» — разве не говорит это нам, не предостерегает нас об этом в «Смерти Ивана Ильича» Толстой? Вот родство, уже внутреннее и гораздо более тесное, чем «сюжет» «Мертвых душ», переданный Пушкиным Гоголю, но который Пушкин, без сомнения, выполнил бы совершенно противоположно Гоголю, с небесною улыбкою своею, какую он дал увидеть нам в «Онегине», «Капитанской дочке», «Дубровском», и решительно без всяких «незримых слез», вулканических рыданий под корою ледяного смеха. В указанной, пусть мимолетной пока, черте есть связь не «сюжета», но содержания души, «умоначертания», связь сердца, умственных догадок, тревожащих сомнений.
И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом,
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями…
Разве это не тема «Детства и отрочества» Толстого? Не та же тоска, очарование, тревога?
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч; и желтые листы…
«Не хочу я уезжать за границу, — говорит одно характерное лицо в „Преступлении и наказании“, — не то чтобы что-нибудь, а вот — Неаполитанский залив, косые вечерние лучи заходящего солнца, и както грустно станет». Эти характер ные «косые лучи» солнца еще повторяются в «Подростке», «Бесах» и личной биографии в самых интимных и патетических местах, так что искусившийся в чтении Достоевского, встретив их — уже знает, что сейчас последует что-нибудь важное и, так сказать, автобиографическое у него; как, упомянув о них, заволновался и Лермонтов:
Глядит вечерний луч…
И странная тоска теснит уж грудь мою.
Я думаю о ней, я плачу и люблю —
Люблю мечты моей созданье,
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой…
Конечно, это не так громоздко, уловимо и доказательно, как «сюжет», «данный» и «взятый», но это — общность в ощущении природы, в волнении, вызываемом какою-нибудь ее частностью; что-то близкое, так сказать, в самой походке, в органическом сложении двух людей, так далеко разошедшихся в манерах и очерке лица.
…И желтые листы
Шумят…
— Видели вы лист? С дерева лист?
— Видел.
— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий, с жилками и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
— Это что же, аллегория?
— Н-нет… Зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.
— Все?
— Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив, — только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — все хорошо. Я вдруг открыл…
— Уж не вы ли и лампадку зажигаете.
— Да, это я зажег («Бесы», т. VIII, стр. 215, 216, изд. 1882 г.).
Кто знает всю внешнюю хаотичность созданий Достоевского и внутреннюю психическую последовательность текущих у него настроений, тот без труда догадается, что этот «среди зимы» представляемый «изумрудно-зеленый» лист — и сейчас же «все хороши», «зажег лампаду» есть собственно мотив предсмертного лермонтовского:
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И в степь укатился…
У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская,
На ветвях зеленых качаются райские птицы…
………………………………
И странник прижался у корня…
Связка ощущений космического декабря, «зимы», и «изумрудной зелени», т. е. космического же «апреля», — здесь и там, в сущности, одна: «лист желтый, немного зеленого, с краев подгнил», т. е. смерть и жизнь в каком-то их касании. И вот у Лермонтова:
…Я плачу и люблю —
Люблю мечты моей созданье…
И у Достоевского:
— Вы зажгли лампаду?
— Я зажег.
Я знаю, что тысячи людей и все «серьезные» критики скажут, что это — «пустяки», что тут «ничего еще значительного нет»; я отвечу только, что это — настроение, вырастающее до «я плачу» у одного, до «все хороши», «зажег лампаду» — у другого, под сочетанием странных и нам непонятных почти, но, совершенно очевидно, одних и тех же представлений, оригинально, т. е. без внешнего заимствования «сюжета», у обоих них возникающих. Именно родственное в «походке» при крайнем разнообразии «лиц». Но будем следить дальше, ловить роднящие черточки: