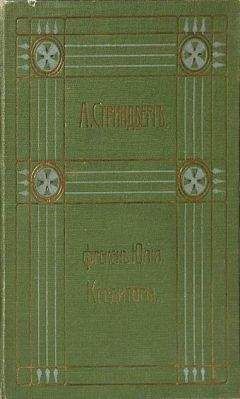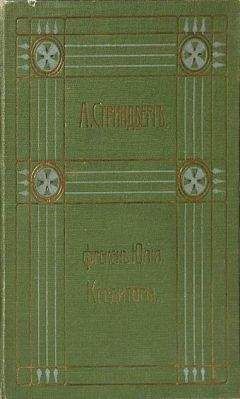Август Стриндберг - Полное собрание сочинений. Том 1. Повести. Театр. Драмы
Некоторые хотят вести летопись новой драмы от Генриетты Мерешаль братьев Гонкур, поставленной и освистанной в Théâtre Français еще в 1865 г. Но такое летосчисление не совсем обосновано, так как Гонкуры являются представителями христианско-физиологического направления старого времени, а в смысле. формы воспользовались всего несколькими смелыми приемами, к которым и раньте умело прибегнуть реалистическое направление любой эпохи.
Вернее будет вести летопись натуралистической драмы, начиная с Терезы Ракэн Зола, как её первой вехи, пометив ее 1873 г.
В наши дни, из демократического безрассудства, пожелали отменить всякую степень различия между произведениями искусства, чтобы при таком положении вещей множество маленьких талантов могло чувствовать себя на одном уровне с большими; и на других поприщах, кроме театрального, продиктовано постановление большинства, что все художественные произведения одинаково хороши, раз они одинаково хорошо исполнены, и даже утверждается, что скучные и сентиментальные Нищие Бастиена Лепажа равноценны Христу Мункачи; одним словом, угодно было незначительное поставить на одну доску со значительным. Зола же, который, как и подобает натуралисту, не может пренебречь бесконечно-малым, как составной частью, никогда не принимал малого за великое по христианскому представлению, но с полным сознанием оправдания в своей силе утверждал право сильного, искал значительного, извлекал из ничтожной действительности её сущность, обнаруживал правящий закон природы и располагал детали в своей зависимости, как соподчиненные части машины.
Поэтому, когда он приближается к театру, чтобы серьезно испытать новые методы, то сейчас же хватается за великие и могучие мотивы, в данном случае — за убийство одного из супругов, чтобы другой получил свободу нового выбора. Но он не идет по следам Дюма и Ожье и отчасти оправдывает убийство господствующим законом, не признающим развода; он ни оправдывает, ни обвиняет, так как он отбросил это понятие, а ограничивается лишь изображением хода действия, установлением его мотива, указанием на его последствия; и в угрызениях совести у преступников он видит лишь выражение нарушенной социальной гармонии, последствия привычных и унаследованных представлений.
Тереза Ракэн — новое явление, но, как заимствование из романа, она еще несовершенна по форме. Всё же у автора уже было чувство того, что его публика должна легче получить иллюзию от большего единства пространства, благодаря чему действие глубже запечатлевает свои главные черты, что, при каждом поднятии занавеса, зрителя должны преследовать воспоминания предыдущего акта, и таким образом, благодаря повторному влиянию среды, он должен быть увлечен действием. Но из трудности изобразить предшествовавшее преступлению и следовавшее за ним, он впадает в ошибку, помещая год между первым и вторым актом. Невидимому, он не дерзнул отступить от действующего закона об обязательном годе вдовства, иначе между актами достаточно было бы одного дня, и впечатление от пьесы было бы дельнее. Поэтому, предлагая однажды директору театра поставить Терму Ракэн, я советовал ему выкинуть первый акт, что может быть сделано без всякого ущерба, и я видел недавно, как один покойный золаист в работе о натурализме предлагает то же самое [1].
Со своим Ренэ Зола, очевидно, вернулся к устарелым формам парижской комедии, с более широким применением пространства и времени, чем это соединимо с мнительностью современного скептического ума, трудно поддающегося обману театральных условностей. На ряду с этим и психология в этой пьесе полна упущений, изображение характеров слишком поверхностно, и вся мелодрама слишком эскизна в своем действии, что, может быть, является обычным следствием переработки романа для сцены.
С Терезой Ракэн возвышенный стиль, глубокое проникновение в человеческую душу, на короткий срок, обратило на себя внимание, но, невидимому, не нашлось ни одного смелого последователя. Равно как после 1882 года хотели отметить в качестве пролагателя новых путей Анри Бека с его Воронами. Лично мне эта пьеса кажется недоразумением. Если искусство, по известному утверждению, должно являться осколком природы, рассматриваемой через темперамент, то в Воронах Бека действительно есть осколок природы, но темперамент отсутствует.
В первом действии умирает фабрикант, после того как, среди множества другого, в первом явлении, шутки ради, появляется его сын, надев его халат — решительно ни на что ненужная шуточка, значения которой я не понимаю, но которая введена драматургом, очевидно, лишь потому, что так бывает в действительности, откуда и взято это скучное и довольно-таки бессмысленное действие. После смерти фабриканта являются адвокаты, компаньоны и неоплаченные или оплаченные кредиторы и расхищают наследство, так что семья разорена. Вот и всё.
Здесь мы имеем пред собою этот столь вожделенный заурядный случай, правило, общее всем людям, которое столь пошло, столь бессодержательно, столь скучно, что после четырех мучительных часов предлагаешь себе старый вопрос: какое мне дело до всего этого? Это же — то самое объективное, столь любезное тем, кто лишен субъективного, — людям без темперамента, бездушным, как их следовало бы называть!
Это — фотография, снимающая всё, до пылинки на стекле своей камеры включительно; это — реализм, метод работы, возведенный в вид искусства, или то маленькое искусство, что из-за деревьев леса не замечает. Это — дурно понятый натурализм, полагавший, что искусство состоит исключительно в том, чтобы изобразить отрывок природы в натуральном виде, а не тот великий натурализм, который отыскивает точки, где совершается великое, который любит зрелища, каких нельзя видеть каждый день, который радуется борьбе природных сил, возбуждают ли эти силы любовь или ненависть, инстинкты ли разлада или же единения, который одинаково воспринимает и прекрасное и уродливое, лишь бы оно было величаво. Ведь именно это грандиозное искусство мы встречали в Жерминале и в Земле, оно же не надолго мелькнуло в Терезе Ракэн; и мы ждали возникновения этого искусства в театре, но оно не пришло пи с Воронами Бека, ни с Рено Зола, а мало-помалу должно было появиться с открытием новой сцены, под именем Théâtre libre, действующей в самом сердце Парижа.
Театр, в особенности парижский, долгое время оставался своего рода торговопромышленным предприятием, где первою двигательною силою был капиталист. Потом набирали штаб любимых артистов, заказывали авторам роли, играли на дивах, и вот возникла драматургия для див, с Дюма и Пальероном во главе.
Таким ложным путем старались основать театр и драматическое творчество, потому что пьесы не принимались на сцену, если не было ролей для знаменитостей, и во многих современных пьесах, написанных для Théâtre Français, за главными фигурами чувствуется Коклэн и Рейшамбер, а характер этих фигур сплошь да рядом искажается, чтобы они подошли к средствам излюбленных артистов. И весь репертуар, выросший на Саре Бернар и Ристори, совершенно никуда негоден.
Но всякий раз, когда театр предоставлялся в распоряжение автора, возникало и истинное драматическое творчество, включая сюда Шекспира и Мольера, а с репертуаром вырос и актер, в чём ведь и состоял правильный путь от главного к второстепенному.
Когда Антуан в Париже, в зале у площади Пигаль, открыл свои представления по подписке, у него не было ни капитала, ни артистов, ни театра, и сам он не был ни автором, ни артистом, но у него был репертуар, и он знал, что дело должно иметь успех и без рекламы.
Он был простым служащим в газовом обществе, но он проникся верою, что, раз имеется репертуар, не будет недостатка и в артистах. Поэтому он начал собирать таких же дилетантов, как он сам, которые собирались по вечерам по окончании занятий и репетировали до полуночи и даже дольше. На гримасы не скупились, пока не увидели вселяющего страх «любительского спектакля», так как в то время боялись представлений с дилетантами, может быть главным образом потому, что любители по непонятной наивности выбирают маленькие, заигранные и ничтожные вещи, которые не могут воодушевить ни их самих, ни публику.
Лессинг же, напротив, был другого мнения о дилетантской игре, на которую он и обращает внимание гг. директоров театра в Гамбургской Драматургии; и его больше пугают знаменитые артисты с их заученным и окаменелым способом выражения, когда им приходилось вступить в новый репертуар, чем эти любители, еще непосвященные в тайны ремесла.
В своем шестнадцатом письме о Драматургии он рассказывает следующее о нескольких удачных попытках в этом направлении: