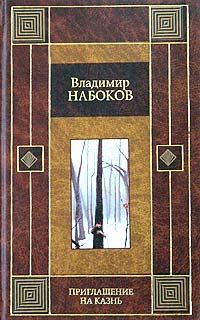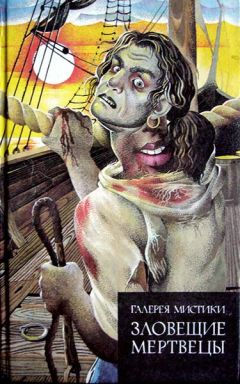Николай Добролюбов - Черты для характеристики русского простонародья
Что касается до малорусских крестьян, то они заслужили отзывы, гораздо более благоприятные. Наше образованное общество училось истории; а известно, что в истории говорится о [кровавой,] смертельной борьбе Украины за свою народность. Кроме того, наше образованное общество отличается вкусом к изящным искусствам и поэзии; а известно, что Малороссия изобилует прелестными песнями, прославляющими козацкую удаль и нежные семейные чувства. Все это, в соединении с тем обстоятельством, что крепостное право водворено в Малороссии очень недавно (это тоже известно из истории){6}, и поставило наших образованных людей в необходимость несколько выгородить малороссов из того повального осуждения на [удоборуководимость,] которым характеризовали русского человека. «Малоросс ленив, упрям, но горд и независим по характеру; у него тотчас слагается протест против всякого нарушения его прав, и хотя протест этот остается недеятельным, но все же он заявляется». Так благоволили отзываться о малороссах весьма умные люди [, такие, которые даже перестали гордиться тем, что они малороссов лишь изредка, да и то в шутку, называют хохлами]. Разумеется, к своему рассуждению они все-таки прибавляли, что руководительство необходимо и малороссу, потому что и он тоже необразован и груб, но что во всяком случае надо стараться, чтобы не было поводов к таким попечениям о нем, какие изображены в «Народнiх оповщаннях» Марка Вовчка. [К великоруссам вообще были гораздо суровее.] Не то чтобы их считали достойными такого обращения, какое выставлено в малороссийских рассказах, а так, знаете, находили, что для великорусса это бы ничего: он, дескать, привык и не очень чувствителен к подобному обхождению. Тонкие и деликатные чувства в нем заглохли; сознания собственного достоинства и чувства чести для него не существует; прав собственной личности и личности другого он не понимает, и потому весьма многие вещи, которые [возмущают нас до глубины души,] не возбуждают в нем ни малейшего [негодования,] не вызывают даже слабого протеста. Мало того: русский мужик даже не понимает иных мер, кроме строгости. Напрасно будете вы взывать к его человеческому достоинству, к святым чувствам долга и права: он не поймет вас, потому что эти чувства ему незнакомы. Для него нужны иные побуждения; нужно, чтобы требования долга олицетворялись в известном начальстве, с строгою карою за каждое преступление их. Оттого-то необходимо удержать еще на долгое время телесное наказание в крестьянских общинах, оттого-то опасно выводить их из-под благодетельного, отеческого надзора помещиков.
Так толкуют многие умные люди, даже печатно. Раскройте любую книжку «Журнала землевладельцев», из которого недавно перепечатаны великолепные «Вечера с разговором», известные, вероятно, нашим читателям по выписке из них в «Свистке»{7}. Да обратитесь и к «Сельскому благоустройству»{8} – и там найдете то же самое, и ежели захотите поискать, то отыщете нечто подобное и в других журналах, только, разумеется, несколько в иных формах. Мы выставили самую грубую, то есть самую простую форму мнения о том, что, вследствие чего бы то ни было, мужик русский имеет теперь низшую природу, нежели прочие люди, принадлежащие к [привилегированным] классам. А бывает форма гораздо более замысловатая. Например: «Удивительно создан русский человек! Какая сила терпения, какое величие самоотвержения! Мы кричим и хлопочем, едва нас пальцем тронет кто-нибудь, а русский мужичок безропотно переносит всевозможные тягости и обременения и, в надежде на милость божию, спокойно идет своею серенькой полоской, неустанно работая и зная, что не ему будут принадлежать плоды трудов его. Мы эгоистически рассчитываем каждый свой шаг, принесет ли он нам пользу, а простого русского человека пошлите на верную смерть – он пойдет беспрекословно, даже не спрашивая, зачем его посылают»… и т. д. и т. д. Вы видите, что сущность мнения та же самая: мужик, дескать, груб и необразован, и потому не имеет ни сознания прав своей личности, ни собственного разума и воли. Но форма здесь, очевидно, дипломатическая, и потому в подобных формах высказываются обыкновенно такие образованные люди, которые готовятся к ораторским торжествам и в ожидании их дают обеды знаменитым иностранцам и пред оными расточают свое красноречие.
Но справедливы ли, в сущности, мнения образованных и красноречивых людей? Точно ли существенная и отличительная черта русского простого человека – «недостаток инициативы», необходимость постороннего понуканья? «Гром не грянет, – мужик не перекрестится», – говорят в свое подкрепление красноречивые знатоки русской народности, выдавая этот пошлый афоризм какого-то грамотея за народную русскую пословицу. Но что они под громом-то разумеют? Не «аплодисменты» ли, о которых говорит Щедрин в начале своих «Губернских очерков»? Не душеспасительное ли русское слово, убеждающее русского человека работать не впрок себе?{9} Да, если [взять юридическую точку зрения и] трактовать крестьянина как вещь [себе не принадлежащую,] то, конечно, выйдет, что у него и не должно быть никакой инициативы, что она была бы преступлением и что так как за преступление наказывают, то он очень хорошо делает, что ее не обнаруживает. Но оставьте крепостное воззрение, да оставьте не в формальностях только, а совсем, в самой сущности оставьте и постарайтесь представить себе русского мужичка как обыкновенного независимого человека, как гражданина [, пользующегося всеми правами и преимуществами свободного государства]. Если у вас достанет на это воображения и если хоть немножко знаете основание характера и быта русского простонародья, то в вашем воображении тотчас явится картина людей, очень хорошо и умно умеющих располагать своими поступками. А чтобы помочь вам в подобном представлении, мы берем книжку Марка Вовчка и напомним вам несколько русских характеров, в ней изображенных.
Надо заметить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намечены в коротеньких рассказцах Марка Вовчка. Мы не можем искать у него эпопеи нашей народной жизни, – это было б уж слишком много. Такой эпопеи мы можем ожидать в будущем, а теперь покамест нечего еще и думать о ней. [Самосознание народных масс] далеко еще не вошло у нас в тот период, в котором оно должно выразить всего себя поэтическим образом; писатели из образованного класса до сих пор почти все занимались народом, как любопытной игрушкой, вовсе не думая смотреть на него серьезно. Сознание [великой роли народных масс в экономии человеческих обществ] едва начинается у нас, и рядом с этим смутным сознанием появляются серьезные, искренне и с любовью сделанные наблюдения народного быта и характера. В числе этих наблюдений едва ли не самое почетное место принадлежит очеркам Марка Вовчка. В них много отрывочного, недосказанного, иногда факт берется случайный, частный, рассказывается без пояснения его внутренних или внешних причин, не связывается необходимым образом с обычным строем жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяем, невозможно еще требовать от наших рассказов из крестьянской жизни: она еще не открывает нам себя во всей полноте, да и то, что открыто нам, мы не всегда умеем или не всегда можем хорошо выразить. Для нас довольно и того, что в рассказах Марка Вовчка мы видим желание и уменье прислушиваться к [этому еще отдаленному для нас, но сильному в самом себе, гулу] народной жизни; мы чуем в них присутствие русского духа, встречаем знакомые образы, узнаем ту логику, те [требования и наклонности,] которые мы и сами замечали когда-то, но пропускали без внимания. Вот чем и дороги для нас эти рассказы; вот почему и ценим мы так высоко их автора. В нем видим мы глубокое внимание и живое сочувствие, в нем находим мы широкое понимание той жизни, на которую смотрят так легко и которую понимают так узко и убого многие из образованнейших наших экономистов, славянистов, юристов, [либералов,] нувеллистов и пр. и пр.
В книжке Марка Вовчка шесть рассказов, и каждый из них представляет нам женские типы из простонародья. Рядом с женскими лицами рисуются, большею частью несколько в тени, мужские личности. Это обстоятельство ближайшим образом объясняется, конечно, тем, что автор рассказов Марка Вовчка – женщина. Но мы увидим, что выбор женских лиц для этих рассказов оправдывается и самою сущностью дела. Возьмем прежде всего рассказ «Маша», в котором это выказывается с особенной ясностью.
Мы помним первое появление этого рассказа{10}. Люди, еще верующие в [святость и] неприкосновенность крепостного права, пришли от него в ужас [и с негодованием упрекали вольнодумную цензуру, осмелившуюся пропустить такой рассказ]. А в рассказе раскрывается естественное и ничем незаглушимое развитие в крестьянской девочке любви к [свободе] и отвращения к рабству. Ничего преступного тут нет, как видите; но на приверженцев крепостных отношений подобный рассказ действительно должен был произвести потрясающее действие. Он залетал в их последнее убежище [, сбивал с последней позиции, в которой они считали себя неприступными]. Видите ли, они, как люди гуманные и просвещенные, согласились, что крепостное право в основании своем [противно правам человечества. Они вполне понимают, что принадлежность человека другому такому же человеку есть нелепость, несообразная с успехами современного просвещения. Все это так…]. Но, вслед за тем, они говорили, что ведь мужик еще не созрел до настоящей [свободы,] что он о ней и не думает, и не желает ее, и вовсе не тяготится своим положением, – разве уж только где барщина очень тяжела и приказчик крут… «Да и помилуйте, откуда заберется мужику в голову мысль о свободе? Книг он не читает [, не только запрещенных, а и] вовсе никаких [(а ведь известно, что все это вольнодумство не от чего другого, как от книг происходит)]; с литераторами не знаком; дела у него довольно, так что утопий сочинять и недосуг… Живет он себе, как жили отцы и деды, и если его теперь хотят освобождать, так это чисто по милости, по великодушию… И поверьте, что мужик не скоро еще очнется, не скоро в толк возьмет, что такое и зачем дают ему… Многие, очень многие еще всплачутся по прежней жизни». Так уверяли умные и просвещенные [земледельцы и их единомышленники] и считали невозможным всякое возражение. И вдруг, представьте себе – [им не возражают уже даже, а прямо уличают их во лжи, оспаривают] действительность факта, на который они ссылаются. Им рассказывают случай, доказывающий, что и в крестьянском сословии [возможна и] естественна любовь к свободному труду и независимой жизни и что развитие этого чувства не нуждается даже в пособии литературы. Вот какой простой случай им рассказывают.