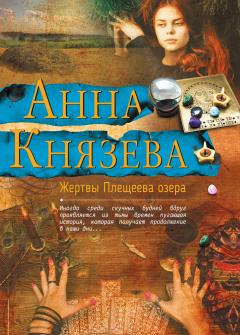Павел Анненков - Заметки о русской литературе 1848 года
Да, рассказ портного, – как поднял он в каком-то кабачке бедного Емелю, зашибенного винцом, призрел его, – неверен и мало трогает нас. В нем недостает главного: нравственного достоинства, так необходимого человеку, который повествует о собственном великодушии. Портной беспрестанно кокетничает добротой своего сердца, а между тем он не так добр, как с первого разу кажется. Посудите сами. Он говорит, например: «Обрадовался я возвращению Емели (сбежавшего с квартиры от стыда после покражи рейтуз), да пуще прежнего тоска к моей душе припаялась. Оно вот как, сударь, выходит: случилось, то есть, надо мной такой грех человеческий, так я, право слово, говорю: скорей как собака издох бы, а не пришел. А Емеля пришел! Ну, натурально, тяжело человека в таком положении видеть» и проч. Эта фальшивая нота обличает в портном человека развитого, да и притом еще дурно развитого. Старания портного возвратить Емелю на путь истины, оставшиеся не только безуспешными, но подвигнувшие Емелю еще на воровство, высказаны кудряво, но задушевного голоса в них не слышится. Читатель постоянно занят не рассказчиком, а манерой автора, его приемами, его условным стилем, которые действительно, в ущерб внутреннему содержанию повести, беспрестанно напрашиваются на ваше внимание, на оценку вашу. Гораздо лучше высказаны очистительные страдания бедного Емели, когда, попостившись денек, другой, он крадет рейтузы у своего учителя и пропивает их. С тех пор грызущая совесть не дает покоя Емеле, и этот человек – этот пьяница! – умирает от сознания своей вины и раскаяния. Но и здесь опять досадный портной все дело портит. Как неодолимое препятствие, стоит он в среде рассказа, словно нарочно для того, чтобы форма повести не могла никак прийти в равновесие с содержанием. Вот, например, чем заключает он повествование о смерти Емели: «Так вот, сударь, это я вам для того теперь рассказал и ндравоучение – если уж нужно, чтоб оно было тут, – для того вывожу, чтоб вы поняли, что если человек раз вошел в порок, как примером сказать, Емеля в пьяную жизнь, так постыдное дело какое, хотя бы он прежде был и честный человек, для него уж возможным становится, – то есть станет возможным помыслить о нем. А как у порочного человека воли не может быть мужественной, да и обсуждение-то не всегда здравое, так он и совершит это постыдное дело, и мысль его нечистая тотчас делом становится. А как совершит, да как, несмотря на свою порочную жизнь, все еще не загубил в себе всего человека (!), как оставалось в нем сердце хоть на сколько-нибудь, так оно тотчас ныть приймется, кровью обливается, начнет раскаяние, как змея его загрызет, и умрет человек не от постыдного дела, а с тоски, потому что все свое самое лучшее (!), что берег помимо всего и во имя чего человеком еще звался (!), за ничто загубил, как Емеля свою честность, что одна только и оставалась за ним, – за полштофа глупой, горькой сивухи…» Здесь уже чисто-начисто стоит сам автор; портной нисколько не повинен в этой пышной риторической речи, старающейся подделаться под народный говор. С помощью ее мы можем объяснить теперь, почему иностранные произведения этого рода так теплы и трогательны, и так хитры и холодны наши подражания. Там явились они от презрения к истертым пружинам беллетристики, от досады на ложный блеск фразеологии, скрывающей обман или пустоту, от жажды простого, истинного чувства, не удовлетворяемой литературной деятельностью общества, перешедшей почти в ремесло. У нас наоборот: они держатся на уловке и имеют в основании авторскую изворотливость и условную манеру, с помощью которых сочинитель берется поставить вам что угодно. Немудрено, что произведение, так написанное, если и производит какое-нибудь действие на читателя, то, конечно, совершенно противоположное тому, какое оно имело в виду.
Мы с намерением остановились так долго на последних трудах г. Достоевского, потому что они служат ключом к объяснению всего, что есть ложно-блестящего и просто-ложного в произведениях его подражателей. Как почти всегда случается, легкие погрешности оригинала обратились у списчиков в крупные черты; наклонности, осуждаемые вкусом, чем глубже сходили вниз, тем решительнее делались постоянными законами, и наконец все, что г. Достоевский, по инстинкту таланта, еще закрывал оговоркой, выставилось у свиты его наголо. К числу подражателей г. Достоевского мы относим, во-первых, г. Буткова, а во-вторых, г. Достоевского-брата (М.М.).
Мы с любовью следили за развитием таланта г. Буткова. Старые его повести, никогда не отличавшиеся глубиной характеров, были живы и ясны. Лица его рассказов интересовали читателя сходством с природой, и если переданы были не всегда поэтической кистью, то, по крайней мере, нельзя было отказать автору в таланте замечательного портретиста. Мы думали, что со временем г. Бутков приобретет и разнообразие, и широкое исполнение, ему недостававшее; но г. Бутков обманул все наши ожидания. Он вдруг нарушил ход собственного развития, отдавшись фантастическому направлению. С тех пор появилась у него тяжелая веселость, изложение обезобразилось претензией на остроумие и сделалось многословно, и – что хуже – самая цель, которая так ясна была во всех его произведениях, теперь затемнилась от постоянного желания придать ей несвойственные многозначительность и верность. Г-н Бутков сделался неузнаваем. Достаточно указать для подтверждения наших слов на две его повести: «Невский проспект» и «Темный человек».
Основа первой очень проста. Бедный человек, выгнанный из какой-то конторы за неисправность, неожиданно выигрывает в лотерею-аллегри великолепную карету работы Иоахима – и тотчас же сходит с ума. Ему вздумалось, как некогда пресловутому Монте-Кристо, отомстить всем своим недоброжелателям, но вместо разнородных казней, изобретенных злопамятным графом, Залетаев решился убить своих врагов только завистью. Он начинает разъезжать в своей карете безостановочно по Невскому взад и вперед, закидывать карточки в дома по всему его протяжению и проч., а между тем продает последнюю свою шубу в квартире, переночевывает от заимодавцев в трактирах, и чем далее идет повесть, тем несообразнее и нелепее становится Залетаев. С первого разу видно, что интрига повести могла бы послужить основанием небольшому шуточному рассказу; но как же упустить случай развить последовательно и серьезно процесс сумасшествия? Убийственно долго дурачится Залетаев до тех пор, пока пьяный кучер завозит его, сонного, в сарай ямщичьего двора, где хозяин, давно не получавший платы, запирает на ключ и карету владельца. Крепки натуры у героев некоторых повестей; только самый чудовищный случай может возвратить их к уму и порядку, как действительно теперь и случилось с Залетаевым.
Кчести г. Бутковадолжно сказать, что по крайней мере в повести его незаметно стремления к наделению героя своего незаконной претензией на великость души, необъятность чувства. Напротив, он постоянно смотрит с улыбкой на Залетаева; но вот беда; улыбка его искусственна, неблагообразна. Часто и очень часто смешивают у нас безобразную карикатуру предметов с юмором. Никогда настоящий юмор не увечит окружающую действительность, чтоб похохотать над ней: он только видит обе стороны ее. Другое дело ложный юмор: это создает искусственно горбы, угловатости, прибавляет темные краски к темным краскам, выдумывает несообразности. Читатель недальновидный может смешать оба рода и смеяться над небывалым миром, представленным ему за настоящий; читатель проницательный смеется при таком случае совсем над другим. Из многих примеров ложного юмора, которым отличается повесть г. Бугкова, представим хоть следующий: «Из-под длинной чуйки, совершенно закутывавшей человеческую фигуру (дело идет о наемном слуге), выглядывали сапоги, которые Залетаев по своему совершенному знакомству со всеми видами сапогов, различал с первого взгляда; один сапог скромный, без всякого внешнего блеска, был однако ж сапог существенный, из прочного, первообразного типа сапогов выростковых; он стоял с твердостию и достоинством на своем каблуке и только резким скрыпом проявлял свой жесткий, так сказать, спартанский характер; другой сапог, по-видимому, случайно, по прихоти рока, стал товарищем первого. Он был щегольский, лакированный сапог, блистал как зеркало, но имел значительные трещины и шлепал подозрительно, из чего и следовало, что он – просто бесхарактерный промотавшийся франтик, покамест блещущий остатком «блеска светкости», но уж уничтоженный, доведенный до товарищества с простым выростковым сапогом». Удерживаемся от всяких комментариев. Нельзя было употребить более усилий, чтоб произвести более неверную и безобразную картину.
Как ни странна подобная выдача литературного безвкусия за веселость или шутку, но это еще ничего в сравнении с тою распущенностью манеры, которая преобладает в другой повести г. Бугкова: «Темный человек». На всей повести лежит один колорит: какой-то тупой насмешки, никогда не достигающей предмета, на которую устремлена. В одном из пристанищ Петербурга, где отдаются внаем углы, появляется между бедными, ничтожными жильцами его, таинственный незнакомец, богатый, скрытный и злой. Это прежний бедняк, вышедший в люди и отомщающий своим врагам (Залетаев тоже мстит старым врагам, если помните) тем, что сажает их за долги в тюрьму. Недоумение бедняков и хладнокровие богача составляют весь интерес повести, к концу которой рассказывается эпизод о несчастном человеке, сошедшем с ума после потери последних своих двадцати пяти рублей серебром. Мы уже много говорили о фантастическом направлении, но так как в этом произведении г. Буткова заметно еще намерение помирить его с реализмом, действительным бытом, то мы, кстати, скажем здесь несколько слов собственно о реализме и о том, как его понимают у нас.