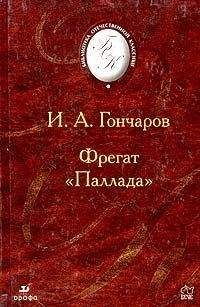Константин Аксаков - Объяснение
Относительно же акта творчества скажем еще, что мы считаем его великою силою, основным элементом поэта, и содержание, условливающее объем его (так последнее растение и человек равны в отношении к акту творчества и разны в отношении к объему и содержанию) и развивающее его мощь – одно, без него ничего не значит и будет похоже на надпись или титул на произведении, когда не воплотится в него, не конкретируется. Но об этом мы советовали бы прочесть Шиллера: «Uber die aestetische Erziehung»[2], хоть во французском переводе[3]. Известно, как истинны и как оправданы дальнейшим развитием мышления его эстетические взгляды; в этом сочинении увидали бы, как великий поэт (нами нисколько не позабытый) глубоко и верно смотрит на значение содержания одного и на значение его художественного воплощения. Явление же такой полноты художественного воплощения, такого совершенства создания, какое находим у Гоголя, считаем мы важным явлением не только у нас, но и вообще в сфере искусства. Тем более важно и велико последнее его произведение; тайна русской жизни, думаем мы, заключена в нем, и мы многое увидим и узнаем и почувствуем, чего не видали, и не знали, и не чувствовали. Но оно важно и в другом отношении: это поэма, ибо в ней я вижу эпическое созерцание и эпическое повествование; не анекдот и не интригу, но целый полный, определенный мир, разумеется, с лежащим в нем глубоким значением, стройно предстающий – то, чего я не вижу в романах и повестях.
Только не читавший Гоголя не знает, что у него есть юмор и что этого юмора нет у Гомера. Здесь объясним мы слова, которые так смутили рецензента. Юмор в наше время есть то, что необходимо сопровождает самое полное и спокойное созерцание поэта, и у Гоголя он находился с самого начала его деятельности: но это не тот юмор, который выдает, выставляет субъект, уничтожая действительность (чему примеров можно много найти между знаменитыми произведениями), но тот, который связует субъект и действительность, сохраняя и тот и другую, так что не мешает видеть поэту все безделицы до малейшей и, сверх того, во всем ничтожном уметь свободно находить живую сторону. Это уменье все видеть и во всем находить живую сторону (чего мы не находим ни в каких романах и повестях) принадлежит собственно Гоголю и явно свидетельствует о характере его созерцания, эпического, древнего, истинного, но в XIX веке и в России, свободного и современного (как сказано у меня) и потому непременно проникнутого таким юмором, который нисколько его не стесняет. – Почему в Россия возникло такое явление, которое (мы выше сказали яснее, в каком отношении) важно в самой сфере искусства, все это дальнейшее объяснение отстранили мы и в брошюрке, как очень обширный предмет. – Еще несколько слов о юморе. Отнимите у эпического созерцания прекрасную жизнь, с которой некогда прямо соединялось оно; представьте пред ним современную жизнь, уже не прекрасную, уже опустевшую: ибо перешагнули за нее, перешагнув в сферу художественной красоты, интересы человека, и глубокое созерцание поэта необходимо примет юмор, то посредствующее, что одно может соединять его еще с жизнью (без чего бы оно отворотилось и закрыло глаза, да позволено будет это выражение), примет юмор, но вместе с тем сохраняя в себе свой характер всевидения и в то же время свою справедливость к жизни, умея везде находить ее сквозь юмор. Только при последних условиях эпическое созерцание полно, истинно и вместе может быть современно, ибо характер его не препятствует современному определению; и мы в таком виде находим его у Гоголя. Но рецензент, кажется, этого не заметил и не находит; из чего и ясно, что Манилов, лицо, в котором, как и во всех лицах Гоголя (я указал в брошюрке на многие), есть своя сторона жизни, произвел в нем только смех, ибо «он не имеет в себе ничего родственного с такого рода мечтательными личностями», и, наоборот, из его же мнения о Манилове заключаем мы, что он не видит великого достоинства Гоголя – везде находить тайну жизни, в какую бы грязь и тину она ни запряталась.
«Отечественные записки» выводят из моих слов (как? это им только известно), что мир есть искаженная Греция. Удивительно! Кажется, мысль о движении человечества вперед уже не новость.
«Отечественные записки» говорят, что я роман и повесть считаю искажением эпоса; но вот, что я говорю в выноске, что поясняет удовлетворительно смутившие их слова:
«Романы и повести имеют свое значение, свое место в истории искусства поэзии; но пределы нашей статьи не позволяют нам распространяться об этом предмете и объяснить их необходимое явление, и вместе их мысль и степень их достоинства в области поэзии при ее историческом развитии».
Сверх того, кажется, рецензент слово эпос смешал совершенно с «Илиадой».
Вот еще странное обвинение: рецензент говорит, что будто бы я любовь к скорой езде называю субстанцией русского народа. Это буквально неправда: у меня есть выражение: субстанциональное чувство, что, надеюсь, не субстанция. – Потом и здесь рецензент не хотел понять, что я не просто о скорой езде говорю; по железной дороге едешь скорее, но не это любит русский человек. Он любит скорую езду со всей ее обстановкой, как она у нас бывает: русскую скорую езду, то есть тройку, «не хитрый дорожный снаряд», который не «железным схвачен винтом»; и ямщика, не в немецких ботфортах, а который «борода да рукавицы и сидит, черт знает на чем», – итак, вот какую русскую скорую езду, со всем ее живым образом, разумею я, – и в таком случае пускай страницы самого автора говорят за меня, пусть прочтут там, что такое эта русская езда и эта тройка.
Есть одно странное обстоятельство в рецензии: там выписываются из моей брошюрки, разумеется, отрывочно, иногда такие слова, которые сами опровергают рецензента; но, не смущаясь, продолжает он выводить далее, что ему угодно, так, что всякий подумает, что, верно, все остальное, им не выписанное, дает право ему так говорить. Вот пример, довольно любопытный.
Выписав слова мои, где я ставлю Гоголя с Гомером и Шекспиром в отношении к акту творчества, рецензент говорит, возражая мне:
«Акта творчества еще мало для поэта, чтобы имя его стало на ряду с именами Гомера и Шекспира» («Отечественные записки», т. 8, с. 50).
Но я именно говорю, что они стоят рядом только в отношении к акту творчества; и, основываясь на этом, нейду далее, ограничиваясь только актом творчества, который, по тому самому, что я в отношении к нему только ставлю Гоголя наравне с Гомером и Шекспиром, – считаю я, следовательно, недостаточным, чтобы имя первого поставить наряду с именами последних. Что ж после этого фраза рецензента? Куда она направлена? Первыми двумя словами выразил он всю мою мысль и говорит далее против вымышленного какого-то мнения[4].
Кажется, рецензент здесь запутался немного и, кажется, заметил это, назвав слова мои похожими на игру в эстетические каламбуры: ну, что касается до этого, то у всякого свое мнение; и мы не виноваты, что рецензент находит эстетические каламбуры там, где другие найдут другое.
Мы, признаемся, с любопытством смотрели, как смело искажались и почти изобретались нам приписываемые мысли; как, несмотря на выписку, говорилось именно то, что уничтожалось выпиской. Это показывает опытность в журнальном деле, которая во всяком случае удивительна[5].
Одно наше примечание, могущее бы очень во многом остановить рецензента, пропущено им, кажется, вовсе; вот оно:
«Такие тесные пределы не позволяют нам сказать о многом, развить, многое и дать заранее полные объяснения на недоумения и вопросы, могущие возникнуть при чтении нашей статьи. Но надеемся, что они разрешатся сами собою».
Но у рецензента не было ни недоумений, ни вопросов; он сейчас решительно не понял, в чем дело.
Сравнение Чичикова с Ахиллом, полицмейстера с Агамемноном и пр<очее> принадлежит остроумию рецензента.
Рецензент говорит, что русский не может быть теперь мировым поэтом. Этот вопрос прямо соединяется с другим: надобно говорить о значении русской истории, современном всемирно-историческом значении России, о чем мы с петербургскими журналами говорить, конечно, не будем, но относительно чего могут быть написаны целые сочинения и книги, и тоже, конечно, не будем, но относительно чего могут быть написаны целые сочинения и книги, и тоже, конечно, уж не для петербургских журналистов.
Довольно. Возражение наше не полно, но оно и так пространнее, нежели мы хотели. Главное наше мнение сказано в брошюрке (которую мы здесь вновь готовы повторить от слова до слова), думаем, довольно понятно для тех, которые хотят или могут понять. – Брошюрка все брошюрка, не более, итак, мы оставляем все дальнейшие объяснения; если «Отечественные записки» вздумают (чего мы не предполагаем) возражать нам еще, мы отвечать ничего ни в каком случае не будем[6].