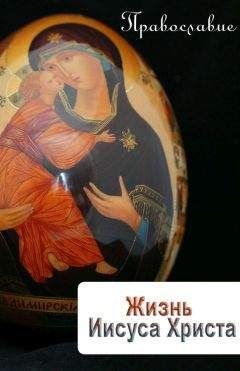Станислав Лем - Мой взгляд на литературу
Чем же я собственно занимаюсь? На примере книжки «Мнимая величина» видно: я пытаюсь представить себе плоды будущей культуры. Это не является каким-то серьезно задуманным предсказанием. И это не беллетризованные прогнозы – ничего, кроме попыток хотя бы микроскопического расширения горизонтов нашей мысли. А так как речь идет о мыслях, о плодах культуры, о художественных произведениях, о трактатах, в действительности не существующих, то есть фиктивных, то, представляя фикцию, тем самым я по-прежнему помещаю «Мнимую величину» в область литературы. Это как бы фикция в некоторой степени, фикция «второй степени», ибо ее героями являются не выдуманные человеческие личности, как бывает в романе, а выдуманные сочинения. Является ли это фантастикой? Я не знаю, в какой мере соответствует подобное определение. Я не знаю – и признаюсь, что меня это мало волнует. Но в любом случае это литература, которая никакого мира, с его жителями, прямо не показывает и не описывает. Это литература о литературе – но не в смысле, например, антиромана, то есть замыкающаяся сама в себе, в процессах написания произведений, а литература, выходящая за пределы самой себя. Она представляет будущее изобразительное искусство («Некробии»). Представляет протокол будущей встречи человека с «ужасно мудрой машиной», являющейся творением его собственных рук – которую я назвал Големом. Представляет будущую научную дисциплину – «битистику», исследующую «бит-литературу», то есть тексты, авторы которых не люди, ибо их авторы – компьютеры родом из XXI века. Потому что проблема «сосуществования» двух разумов – человеческого и «нечеловеческого», биологического и машинного интеллекта – кажется мне одной из ключевых в будущем.
Однако представляя будущие сочинения, я не написал их – это было бы и невозможно, и утомительно, – но только «вступления» к ним. Подобный шутливый прием (создание «интродукционистики» как «нового литературного жанра») облегчил исполнение задуманной не только как шутка задачи. Представление этой задачи составляет суть моего письма. Мы не знаем, что будет в действительности, но должны готовиться ко всему, что вообще можно придумать – лишь бы это было когерентным, логичным, четким.
Не подчиняясь в этой сфере строгим правилам, что требуется от науки, литература – пользуясь такой привилегией, как licentia poetica[4], – может, а значит должна, позволить себе гораздо больше, чем вправе себе позволить научное предвидение будущего – футурология.
Если «Мнимая величина» местами странная, местами трудная для понимания, местами неподдающаяся определению, серьезно ли здесь о чем-то говорится, или здесь смеются и издеваются, то – одновременно могу отметить, что странным, трудно понимаемым, насмешливым и одновременно серьезным является мир, в котором я живу и пишу, – я готов, однако, взять на себя вину за эту «трудность» моих текстов. Я не хотел бы быть ни «трудным», ни «элитарным» писателем, и если о чем-то думаю, то стараюсь выразить просто, как я только могу – к сожалению, это не всегда мне удается. Возможно, я чрезмерно обременяю «научностью», сайентичностью такие тексты, но это потому, что считаю: обновлять литературу, помогать литературе, приспосабливать литературу к миру можно только извне, взрывая ее застывшие формы, из ее нутра, лишь из нее самой помощь прийти не может.
Поэтому я привлекаю достижения философии, естествознания, футурологии, но не ограничиваюсь их сегодняшними, реальными результатами, а продолжаю их фикциями – в будущее или скорее в непроницаемую завесу, которая скрывает от нас будущее.
То, что я сказал, должно быть объяснением, а не оправданием, ответом моим Читателям, а не попыткой защиты или, напротив, восхваления моих экспериментов. Тем более что я могу ошибаться, ибо не знаю не только мира будущего и даже как следует мира настоящего, но и самого себя, собственных возможностей и собственной ограниченности. И потому я не призываю к этим новым текстам, не называю их панацеей, не принимаю их за «единственный правильный» путь, а делаю просто то, что умею и как умею – в литературе.
Если мне удастся написать после «Мнимой величины» следующую книгу, наверное она снова будет неким образом иная, а так как мир не хочет постоянно повторяться, то и литература не должна без борьбы отказываться от возможности идти с ним в ногу как захватывающая игра со скрытым замыслом, как шутка, начиненная, возможно, и драматической моралью, как смертельно серьезная игра, но не из-за прихоти писателя, а в силу необходимости.
Часть 1
Опасные союзы
Перевод Язневича В.И.
I
Одиннадцать лет назад я сидел в издательстве «Czytelnik» перед ученым собранием, которое должно было принять решение об издании «Магелланова Облака». Эту книгу, столь невинную, столь юношескую, обвинили в протаскивании, среди прочего, идей кибернетики, которую мне не удалось успешно закамуфлировать выдуманным названием «механоэвристика». Я был разоблачен, книга тогда не прошла. Это не важно. Но я помню, как мне пришлось разыгрывать из себя идиота, когда один из присутствующих в зале (ибо это был зал) полонистов издевался над другим термином – «термодинамикой логики». Я вынужден был прикинуться идиотом, так как не мог объяснить, что этот термин в некоторых ранних работах обозначал то, что в последнее время принято у нас – и принято «на ура» – а именно: теорию информации.
Я рассказал этот анекдот не для того, чтобы предаться горестным или веселым воспоминаниям, а для того, чтобы поменяться ролями.
II
Теория информации стала модной; я читаю о ее приложениях к теории стихосложения, к анализу поэтики и скорее обеспокоен этим, чем удивлен. Авторы гуманитарных работ по полонистике уверовали в мощь физикалистического ключа, который, по их мнению, эта теория предоставляет. Я говорю о беспокойстве, так как занимаюсь этой проблемой более двенадцати лет, и лихорадка очарования, которой заразили меня первые работы Шеннона, Маккея или фон Неймана, давно прошла.
Хлопоты с введением этой строгой дисциплины в литературоведение разнообразны. Правда, в окончательном виде они подобны тем, которые беспокоили приветствующих Наполеона граждан: во-первых, у них не было пушек...
Ведь речь идет даже не о том, чтобы показать, с какой легкомысленностью злоупотребляют основными понятиями; допустим, что после того, как мы подчеркнем красным карандашом самые грубые ошибки, покажем, что «излишек организации» никогда не сможет привести к «возрастанию энтропии» (а такие декларации, способные довести теоретика до инфаркта, там обычное явление), нам удастся на этой самой неустойчивой из всех возможных основе – поэзии – привести в движение всю махину теории.
Но с такими пушками битвы нам не выиграть, так как самые интересные даже с физикалистической точки зрения результаты, те окончательные цели, на которые мы можем рассчитывать, будут отягощены одним страшным грехом: полным бессилием отличить произведения совершенной поэзии от совершенной графомании. Действительно, мы установим, что стихотворение имеет определенную информационную емкость и ни одного из законов, открытых теорией, не нарушает, как не нарушают законов сохранения энергии и материи жизненные процессы, и как все наследие Шекспира не противоречит тому, что он был млекопитающим. Разве мы ожидали чего-то другого? Ведь стихотворение не является ни «наименее ожидаемой», ни «наиболее организованной» информацией, ни «наиболее результативным из всех возможных способом уничтожения шума» – по крайней мере в том смысле, чтобы нам не удалось легко сконструировать текст, который будет удовлетворять всем этим требованиям, не имея ничего общего с поэзией. Дело кончится утверждением, что речь идет не об информации «вообще», а о «поэтической информации» – это равносильно объяснению сонного воздействия отвара мака его усыпляющими свойствами. Что остается в итоговом уравнении? Замена старой, традиционной литературоведческой номенклатуры, которая полными горстями черпала из геологии, из архитектуры, из биологии («пласты», «слои», «ткани», «скелеты» произведений), новыми заимствованиями, намного более претенциозными, поскольку они представляются не тем, чем являются, – метафорами, и вводят в заблуждение. Ведь каждый знает, что ни роман, ни стихотворение не принадлежат к отряду позвоночных или к набору геологических формаций, но натыкаясь на каждом шагу на «коды», «шумы», «негэнтропию», я готов поверить, что это не шутки, а введение объективных исследовательских инструментов в области, где до сих пор правила неравномерно освещенная троица – нормативизм, генетические направления и не дающий ухватить себя (по причине туманности) призыв к интуиции.