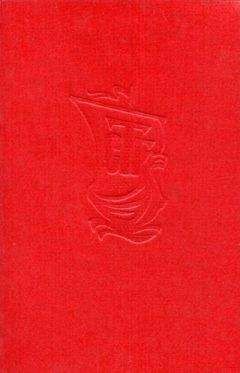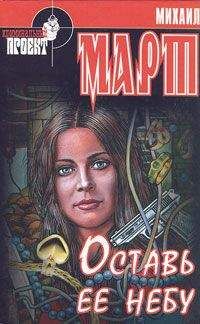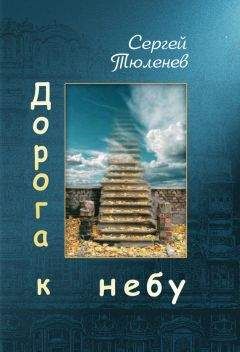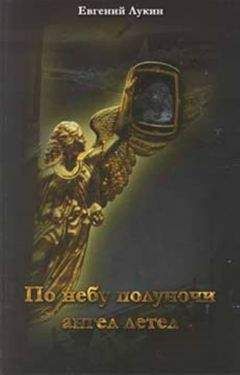Дмитрий Мережковский - М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества
Конец Лермонтова у Вл. Соловьева напоминает конец Фауста. Потомок шотландского чернокнижника Фомы Лермонта и предок немецкого антихриста Ницше не мог иметь иного конца.
«Конец Лермонтова и им самим и нами называется гибелью, — заключает Вл. Соловьев. — Выражаясь так, мы не представляем себе, конечно, театрального провала в какую-то преисподнюю, где пляшут красные черти». Оговорка дела не меняет: какого бы цвета ни были черти, нет сомнения, что Вл. Соловьев Лермонтова отправил к чертям. Он дает понять, что конец его не только временная, но и вечная гибель.
Над поэтом произносится такой же беспощадный приговор, как над человеком.
«Осталось от Лермонтова несколько истинных жемчужин поэзии», затерянных в навозной куче «свинства», в «обуявшей соли демонизма, данной на попрание людям по слову Евангелия; могут и должны люди попирать эту обуявшую соль с презрением и враждою, конечно, не к погибшему гению, а к погубившему его началу человекоубийственной лжи».
Спасти Лермонтова от вечной погибели нельзя; но, чтобы «хоть сколько-нибудь уменьшить ужас, на который он обречен и который неизмеримо ужаснее „пляшущих красных чертей“, мы должны „обличать ложь воспетого им демонизма“, т. е. ложь всей лермонтовской поэзии, чья сущность, по мнению Вл. Соловьева, и есть не что иное, как демонизм, превратное сверхчеловечество.
О. Матфей советовал Гоголю сжечь свои писания; Вл. Соловьев почти то же советует нам сделать с писаниями Лермонтова.
В этом приговоре нашла себе последнее выражение та глухая ненависть, которая преследовала его всю жизнь.
Добрейший старичок Плетнев, друг Пушкина, называл Лермонтова „фокусником, который своими гримасами напоминал толпе Пушкина и Байрона“. Современный присяжный поверенный Спасович утверждает, что Лермонтову „можно удивляться, но любить его нельзя“. Достоевский, так много сказавший о Пушкине, ни слова не говорит о Лермонтове, которому в мистике своей обязан едва ли не более чем Пушкину, а единственный раз, когда вспомнил о Лермонтове, сравнил его с „бесноватым“ Ставрогиным по силе „демонической злобы“: „В злобе выходил прогресс даже против Лермонтова“. Пятигорские враги поэта, натравливая на него Мартынова, говорили, что пора „проучить ядовитую гадину“. Одна „высокопоставленная особа“, едва ли не император Николай I, узнав о смерти Лермонтова, вздохнула будто бы с облегчением и заметила: „Туда ему и дорога!“ — а по другому, не психологически, а лишь исторически недостоверному преданию, воскликнула: „Собаке собачья смерть!“
Таким образом, Вл. Соловьев нанес Лермонтову только последний, так называемый „милосердный удар“, coup de grâce. Мартынов начал, Вл. Соловьев кончил; один казнил временной, другой — вечной казнью, которую предчувствовал Лермонтов:
И как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.
Казнь свершилась, раздавлена „ядовитая гадина“; лучезарному Аполлону-Пушкину принесен в жертву дионисовский черный козел — козел отпущения всей русской литературы — Лермонтов.
Откуда же такая ненависть?
III
„Смирись, гордый человек!“ — воскликнул Достоевский в своей пушкинской речи. Но с полной ясностью не сумел определить, чем истинное Христово смирение сынов Божиих отличается от мнимо христианского рабьего смирения. Кажется, чего другого, а смирения, всяческого — и доброго и злого, — в России довольно.
Смирению учила нас русская природа — холод и голод, русская история — византийские монахи и татарские ханы, московские цари и петербургские императоры. Смирял нас Петр, смирял Бирон, смирял Аракчеев, смирял Николай I; ныне смиряют карательные экспедиции и ежедневные смертные казни. Смиряет вся русская литература.
Если кто-нибудь из русских писателей начинал бунтовать, то разве только для того, чтобы тотчас же покаяться и еще глубже смириться. Забунтовал Пушкин, написал оду Вольности и смирился — написал оду Николаю I, благословил казнь своих друзей, декабристов:
В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Забунтовал Гоголь — написал первую часть „Мертвых душ“, и смирился — сжег вторую, благословил крепостное право. Забунтовал Достоевский, пошел на каторгу — и вернулся проповедником смирения. Забунтовал Л. Толстой, начал с анархической синицы, собиравшейся море зажечь, и смирился — кончил непротивлением злу, проклятием русской революции.
Где же, где, наконец, в России тот „гордый человек“, которому надо смириться? Хочется иногда ответить на этот вечный призыв к смирению: докуда же еще смиряться?
И вот один единственный человек в русской литературе, до конца не смирившийся, — Лермонтов. Потому ли, что не успел смириться? Едва ли. Источник лермонтовского бунта — не эмпирический, а метафизический. Если бы продолжить этот бунт в бесконечность, он, может быть, привел бы к иному, более глубокому, истинному смирению, но, во всяком случае, не к тому, которого требовал Достоевский и которое смешивает свободу сынов Божиих с человеческим рабством. Ведь уже из того, как Лермонтов начал свой бунт, видно, что есть в нем какая-то религиозная святыня, от которой не отречется бунтующий даже под угрозой вечной погибели, той „преисподней, где пляшут красные черти“.
Этой-то метафизически и религиозно утверждающей себя несмиренности, несмиримости и не могла простить Лермонтову русская литература. Все простила бы, только не это — не „хулу на Духа“, на своего смиренного духа.
Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец! хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами.
Смотрите ж, дети, на него,
Как он угрюм, и худ, и бледен,
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!
Вот за что обречен был Лермонтов на страшную казнь в сем веке и в будущем.
Вл. Соловьев уверяет, будто бы любит Лермонтова. „Вы мне поверите, что прежде чем говорить о Лермонтове, я подумал, чего требует от меня любовь к умершему“. Но уж если любовь такова, что вбивает, так сказать, осиновый кол в горло покойнику, то какова же ненависть?
Любовь или ненависть, во всяком случае, такая страсть в этой борьбе, которая возможна только тогда, когда враг врагу чересчур близок. Вл. Соловьев и Лермонтов — родные братья, Авель и Каин русской литературы; но здесь совершается обратное убийство: Авель убивает Каина.
Борьба многих смиренных с одним „гордым человеком“ происходила до сих пор в темноте, как бы ощупью: слышно было только, что кого-то ловили, давили, душили и никак не могли задушить окончательно. Но кого именно не было видно. Никто не смел заглянуть в глаза избиваемой нечисти, словно упырю или оборотню. Вл. Соловьев первый осмелился, не опустил глаза перед невыносимо-тяжелым взором Лермонтова и, глядя ему прямо в глаза, произнес: „сверхчеловек“. И слово это, как свеча, вдруг поднесенная к лицу оборотня, осветило его. Верно это или неверно, во всяком случае, дело тут идет именно об этом.
Борьба сверхчеловечества с богочеловечеством для нас не только настоящее, но и будущее, наша вечная злоба дня. Вот почему мы должны были обернуться в ту сторону, откуда уставились на нас эти тяжелые глаза; вот почему незапамятно давний, почти забытый, детский Лермонтов так внезапно вырос и так неотступно приблизился к нам.
IV
„Подходя к дверям поручика Синицына, я почти столкнулся с быстро сбегавшим с лестницы и гремевшим шпорами молоденьким гусарским офицером. Он имел очень веселый вид человека, который сию минуту слышал или сделал что-то пресмешное. Он слегка задел меня капюшоном своей распахнувшейся шинели и, засмеявшись звонко на всю лестницу, сказал: — Извините мою гусарскую шинель, что она лезет без спроса целоваться с вашим гражданским хитоном.
Лицо у него было бледное, несколько скуластое, как у татар, с крохотными тоненькими усиками и с коротким, чуть-чуть приподнятым носом, именно таким, какой французы называют nez à la cousine. Развеселый этот офицерик не произвел на меня никакого особенного впечатления, кроме только того, что взгляд его мне показался каким-то тяжелым, сосредоточенным…“
А вот отзыв самого благонравного поручика Синицына: „Я, вы знаете, люблю, чтобы у меня все было в порядке… А тут вдруг, откуда ни возьмись, влетает к вам товарищ по школе, курит, сыплет пепел везде, где попало, тогда как я ему указываю на пепельницу, и вдобавок швыряет окурки своих проклятых пахитос в мои цветочные горшки и, при всем этом, без милосердия болтает, лепечет, рассказывает всякие грязные истории о петербургских продажных красавицах, декламирует самые скверные французские стишонки… Небось, не допросишься, чтоб что-нибудь свое прочел! ленив, пострел, ленив страшно, и что ни напишет, все или прячет куда-то или жжет на раскурку трубок своих же сорви-голов-гусаров…“