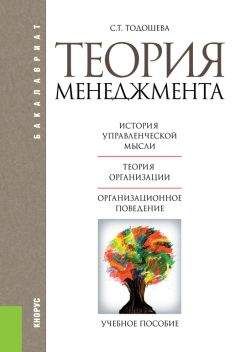Фридрих Шиллер - О наивной и сентиментальной поэзии
Но в обоих случаях — в наивном нечаянного и наивном образа мыслей — природа должна быть права, а искусство неправым.
Лишь это последнее определение завершает понятие наивного. Аффект принадлежит к природе, а правила приличия — это нечто искусственное; все же победа аффекта над приличием не имеет ничего общего с наивностью. Однако, если этот же аффект возьмет верх над жеманством, над ложным приличием, над притворством, мы скажем, не обинуясь, что это наивно[4]. Итак, чтобы возникло наивное, требуется, чтобы природа торжествовала над искусством не как слепая власть динамической силы, но своей формой силы моральной, — короче, не как неотвратимая потребность, но как внутренняя необходимость. Не недостаточная сила искусства, но неуместность его должна доставить природе победу над ним, ибо неуместность это недостаток, а ничто, происходящее из недостатка, не способно вызвать уважение. Преобладание аффекта и недостаток сознательности, правда, вынуждают нас всегда признавать присутствие природы в наивном нечаянного; но ни это преобладание, ни этот недостаток еще не создают наивного, они только дают природе случай беспрепятственно следовать своей моральной сущности, то есть закону гармонии.
Наивное нечаянного является достоянием только человека, и при том лишь в той мере, в какой он в данное время уже перестал быть чистой и невинной природой. Оно предполагает наличие воли, не соглашающейся с тем, что природа делает по собственному побуждению. Такой человек, когда его образумят, ужаснется самому себе; человек наивного склада, напротив, удивится окружающим людям и их изумлению. И так как здесь к признанию правды приводит не личный и моральный характер, но естественный характер, освобожденный аффектом, мы не ставим такую искренность в заслугу человеку, и смех над ним является заслуженной насмешкой, не сдерживаемой уважением. Все же и здесь проявляется естественная искренность, которая пробивается сквозь завесу фальши, и поэтому к злорадству над человеком, попавшим впросак, присоединяется удовольствие более высокого порядка; ибо природа, противостоящая искусственности, и правда, противостоящая обману, всегда возбуждают в нас уважение. Таким образом и наивное нечаянного дает нам подлинно моральное наслаждение, хотя и не вызванное моральным характером человека[5].
В наивном нечаянного мы неизменно уважаем природу потому что не можем не уважать правду; в наивном образа мыслей мы, напротив, отдаем уважение личности и поэтому не только получаем наслаждение от морального удовольствия, но также и от его морального предмета. Природа права в обоих случаях, ибо она говорит правду; но в последнем случае не только природа права но и человек честен. В первом случае естественная искренность всегда является укором человеку, так как она непроизвольна; во втором случае мы всегда ставим ее в заслугу, если даже она заставила человека высказать нечто, принесшее ему стыд.
Мы приписываем человеку наивный образ мыслей, если он пренебрегает в своих суждениях о вещах искусственными и предвзятыми мнениями и верен лишь одной простой природе. Мы ждем от него всего, к чему может прийти здоровая натура, оставаясь собой, и мы охотно отпускаем ему лишь то, что обусловлено отдалением от природы в мышлении или в чувстве, либо по меньшей мере знанием, что такое отдаление возможно.
Например, отец рассказал своему ребенку, что некий человек погибает в бедности, и ребенок идет к этому бедняку и приносит ему кошелек отца; ребенок наивен, потому что в нем действовала сама здоровая природа, и в мире, где господствовала бы здоровая природа, он имел бы неоспоримое право поступить именно так. Лишь потребность и ближайшее средство к ее удовлетворению были перед его взором; растяжимое понимание права собственности, обрекающее часть человечества на гибель, не коренится в самой природе. Таким образом поступок ребенка — укор действительному миру; это подтверждает и наше сердце тем удовольствием, которое оно чувствует по поводу этого поступка.
Если некий человек, не обладающий знанием света, но во всем прочем вполне рассудительный, доверяет свои тайны другому человеку, обманщику, умеющему ловко притворяться, и своей откровенностью сам дает средство себе повредить, — мы считаем это наивностью. Мы смеемся над ним, но не можем воздержаться и от того, чтобы не ценить его за это. Ведь его доверчивость к другим людям проистекает из честности собственных его помыслов; во всяком случае, он наивен именно в этой мере.
Наивность мышления никогда не может быть, вследствие этого, свойством испорченных людей и принадлежит лишь детям и по–детски мыслящим людям. В извращенных отношениях большого света действия и мысли последних часто бывают наивны; собственная прекрасная человечность таких людей заставляет их забывать, что они имеют дело с испорченным светом, и вести себя при королевских дворах с той же естественностью и невинностью, какую можно найти лишь в мире пастушеской простоты.
Однако отличить детскую невинность от ребячливости не всегда бывает легко; ибо есть поступки, колеблющиеся на самой границе между тем и другим и оставляющие нас по меньшей мере в сомнении — следует ли нам здесь осмеять простоватость или склонять голову перед благородной простотой. Замечательный пример такого рода нам дает история правления папы Адриана VI, описанная господином Шреком со свойственной ему основательностью и прагматической правдивостью. Этот папа, нидерландец родом, владел святым престолом в один из самых критических моментов для иерархии, когда часть ее, состоящая из людей решительных, беспощадно вскрывала пороки католической церкви, другая же часть, противная ей, была в высшей степени заинтересована в том, чтобы их скрыть. Не стоит и спрашивать, как поступил бы в этом случае подлинно наивный характер, если бы он случайно попал на престол святого Петра; но вполне уместен вопрос, насколько роль римского папы может согласоваться с наивностью мышления. Речь шла о том, что доставляло предшественникам и преемникам Адриана меньше всего хлопот. Они с полным единообразием следовали раз навсегда принятой Римом системе — не выносить сору из избы. Но Адриан действительно обладал прямотой характера, свойственной его нации, и невинностью своего прежнего сословия. На высокое место он взошел, подымаясь из тесного круга ученых, и не изменил простоте своего характера, достигнув новых, высших почестей. Злоупотребления в церковной жизни его волновали, а он был слишком честен, чтобы публично отрицать то, в чем сознавался наедине с собою. В соответствии с таким образом мыслей он изложил в инструкции, данной им своему легату в Германии, такие призвания, которые до тех пор казались немыслимыми для любого папы и шли вразрез со всеми принципами папского двора. «Мы отлично знаем, — писал он, между прочим, — что уже долгие годы на этом святом престоле совершаются гнусные дела; мы не дивимся, что болезненное состояние перешло с головы на члены, с папы на прелатов. Все мы сбились с пути, и давно уже среди нас нет никого, ни одного–единственного, кто сделал бы нечто доброе». В другом месте он велит легату объявить именем папы, что его, Адриана, не следует порицать за то, что пришлось претерпеть от прежних пап и что такие бесчинства были ему отвратительны также и тогда, когда он жил, находясь в низшем положении, и так далее. Легко себе представить, как должен был встретить римский клир такую наивность со стороны папы; наименьшее, в чем его обвиняли, было то, что он предал церковь еретикам. Между тем этот в высшей степени неразумный для папы шаг был бы достоин всего нашего уважения и восхищении — если бы мы только были убеждены, что поступок был действительно папиным, то есть, что папу вынудили это сделать, не заботясь о возможных последствиях, одна лишь правдивая природа его характера, и что он поступил бы так же, если бы и понимал во всем объеме совершаемый промах. Однако у нас есть причины думать, что этот шаг вовсе не казался ему таким уж неполитичным и что он был настолько простоват, что верил, будто отвоевал нечто весьма важное в пользу церкви своей уступчивостью к ее врагам. Он не считал, что должен сделать этот шаг просто как честный человек, но воображал, что может за него отвечать так же, как папа, — и он совершил непростительную ошибку, забывая, что искусственнейшая из всех конструкций не может быть поддержана иначе как посредством упорного отрицания истины, и последовал тем правилам поведения, которые могли быть оправданы лишь в совсем иной обстановке, при условии естественных отношений. Это, конечно, сильно изменяет нашу оценку; мы и теперь не отказываем в нашем уважения искренности его сердца, которая была источником этого поступка, но оно в немалой мере ослабляется мыслью, что природа встретила здесь слишком бессильного противника в искусстве, а сердце — в голове. Наивным должен быть каждый истинный гений — или он вовсе не гений. Гением его делает только наивность, а если он таков в интеллектуальной и эстетической областях, то не может быть иным в области моральной. Неискушенный в правилах — этом костыле немощных и укротителе извращенности, — ведомый лишь своей природой или своим ангелом–хранителем, инстинктом, он спокойно и уверенно минует все ловушки ложного вкуса, в которые неизбежно попадается не гениальный человек, если он не настолько умен, чтобы обходить их издали. Только гению дано чувствовать себя дома в неизвестном и расширять природу, не преступая ее границ. Правда, последнее может случиться и с величайшим гением, но лишь потому, что и у него бывают фантастические минуты, когда его, увлеченного силой примера или отклоненного с пути испорченным вкусом эпохи, покидает его защитница–природа. Гений должен разрешать самые запутанные задачи с безукоризненной простотой и легкостью; Колумбово яйцо — образ всякого гениального решения. Гений заставляет себя признать именно в силу того, что его простота торжествует над изощреннейшим искусством. Он действует не по изученным принципам, а посредством догадок и чувств; но его догадка — внушение божества (все, что творит здоровая природа, божественно), его чувства — закон для всех времен и поколений.