Лев Гинзбург - Разбилось лишь сердце мое... Роман-эссе
Итак, я оказался первым иностранцем, которому выпала честь увидеть еще никому не известный автограф Гейне, к тому же сделанный на первом издании книги Гофмана.
В институте мне показывали гейневские рукописи: обычно — тонким пером, коричневыми чернилами. В Париже, в «матрацной могиле», лежа на низкой кушетке, куда его на руках переносили с кровати, исколотый морфием, он писал преимущественно на широких плотных листах, размашистым почерком, карандашом.
Я прочитал его последнее письмо матери:
«…подставь мне твои милые старенькие губки, чтобы тебя мог от всего сердца чмокнуть твой любимый сын…»
Она пережила его на три года…
За несколько часов до смерти в комнату к нему проник австрийский поэт Альфред Мейснер. Он осведомился, каковы его отношения с богом. Гейне, улыбаясь, ответил:
— Будьте спокойны. Бог простит меня. Это его профессия…
17 февраля 1856 года около четырех часов утра жизнь его угасла.
Два года спустя в России вышел первый сборник Генриха Гейне на русском языке: «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова. Санкт-Петербург, 1858».
Эту книжку хранят в дюссельдорфском институте как реликвию…
В 1858 году Россия переживала вешнее время надежд, ободряющих слухов, вызревания реформ. Шли бесконечные толки о предстоящей отмене крепостного права. Составлялись проекты новых законов, уставов Литературного фонда, Театрального комитета, нового университетского устава.
Оживление царило и в русской литературе. Тургенев закончил «Дворянское гнездо», Гончаров «Обломова», Некрасов «Размышления у парадного подъезда».
Жили, писали Толстой, Щедрин, Тютчев, Островский, Сухово-Кобылин, Аполлон Григорьев, Чернышевский… Вот-вот должен был вернуться из ссылки Достоевский…
Сходились в литературных домах, читали вслух друг другу рукописи новых романов.
Графиня Блудова на обеде прочла стихи Аксакова в честь будущего освобождения крестьян.
Михайловский томик Гейне также принадлежал к знамениям времени. Десять лет назад Жуковский, прочитав Гейне, с ужасом писал о нем Гоголю как о провозгласителе «всего низкого, отвратительного и развратного»… Теперь Гейне стал в России кумиром — произошла переоценка ценностей.
Многие переводы Михайлова живы поныне: «Два гренадера», «Вопросы», «Женщина»… Они не всегда точны, но передают главное: настроение, интонацию, мысль. Кажется, Михайлов первый внял совету Гейне, который незадолго до смерти сказал французскому германисту Сен-Рене Тайандье по поводу своих стихов: «Есть такие вещи, которые непременно нужно перелагать, а не переводить». И верно. Будь иначе, мы никогда бы не читали: «Во Францию два гренадера из русского плена брели…», не повторяли бы: «Когда-то друг друга любили мы страстно. Любили хоть страстно, а жили согласно…»
На Гейне пошла мода, его переводили, кажется, все, но часто — плохо. Поэт-сатирик Минаев разнес и Фета, и Майкова, и Берга, и Миллера.
Писарев жестоко бранил переводы Костомарова, упрекал его в искажении подлинника. Но Всеволод Дмитриевич Костомаров, племянник знаменитого историка, был повинен в более тяжком грехе: он был доносчиком.
14 сентября 1861 года, ночью, арестовали Михаила Ларионовича Михайлова. Он был доставлен в III Отделение, на Фонтанку. Когда ему предъявили текст составленной им прокламации «К молодому поколению», он понял, кто его выдал. Костомаров приходил к нему просить содействия в своих литературных работах по части самостоятельной и переводной поэзии. Михайлов доверчиво отдал ему то, что, возможно, было важней стихов и переводов.
В литературной среде арест Михайлова вызвал потрясение. Всего лишь полгода прошло с 5 марта, когда на улицах встречные христосовались друг с другом. За всю свою тысячелетнюю историю Россия еще не была так свободна! Пало рабство!.. В Петербург вернулся прощенный Достоевский…
Через два или три дня после ареста Михайлова у издателя «Русского слова» графа Кушелева-Безбородко собрались почти все петербургские литераторы: как помочь товарищу, что предпринять? Была составлена петиция министру народного просвещения; долго дебатировали, обсуждая текст, просили допустить к следствию депутата от литераторов. Подписалось человек около ста, однако действия это не возымело никакого; вручавших петицию чуть было не посадили на гауптвахту…
Михайлову вменялось в вину, что его воззвание ставило целью возбудить бунт против верховной власти, вызвать потрясение коренных учреждений государства. Особо было отмечено, что «нельзя принять в уважение показание Михайлова, что при составлении прокламации он имел единственною целью ослабление цензуры…».
Общество недоумевало. Те, кто читал прокламацию Михайлова, по неведению не усматривали в ней ничего опасного, ее открыто передавали из рук в руки, читали при посторонних. И за это может грозить каторга? Даже если — только в одном экземпляре? Но как же так? Ведь — воля. Ведь — эпоха великих реформ. Ведь — весна: «последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином» (Аполлон Майков)… Не николаевские же ведь времена…
Михайлова судил правительственный сенат. Он был переведен в невскую куртину Петропавловской крепости…
Для нас Михайлов — поэт XIX века, классик перевода. В глазах своих судей он был закосневший в своих пороках тридцатилетний молодой человек, злоумышлявший против верховной власти опасный государственный преступник. Его приговорили к двенадцати с половиной годам каторжных работ.
Ранним утром, в четверг 14 декабря (опять 14 декабря!) 1861 года в каземат вошли палач с ножницами и бритвой, кузнец с кандалами, два крепостных офицера. Михайлова обрили по-арестантски, заковали в кандалы… Он был дворянского звания, и друзья поэта старались избавить его хотя бы от этой муки. Но генерал-губернатор оставил их просьбу без последствий, заявив, что имеет на сей счет особые предписания…
Генерал-губернатором Петербурга был тогда князь Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский, внук Суворова. Когда-то за короткость с декабристом Одоевским его перевели на Кавказ, он был в опале, но уже в 1830-31 годах отличился при подавлении польского восстания. Став петербургским генерал-губернатором, князь прослыл, в общем-то, либералом.
В юности он обучался в университетах: в Геттингене, в Париже…
Он был незлой человек…
На узкой Галерной улице толпа молодежи ждала колесницу с осужденным. Михайлов сидел спиной к вознице в серой арестантской куртке, в арестантской шапке. В цепях…
В каторге Михайлов продолжал переводить Гейне.
Забытый часовой в Войне Свободы,
Я тридцать лет свой пост не покидал.
Победы я не ждал, сражаясь годы;
Что не вернусь, не уцелею, знал…
Он умер в Сибири, в возрасте тридцати шести лет.
Сообщение о его смерти Герцен поместил в «Колоколе» под возмутительным, как это считалось в жандармских кругах в Петербурге, подстрекательским заголовком «Убили».
Более полувека имя его находилось под запретом.
В замечательной антологии Гербеля «Немецкие поэты в биографиях и образцах» (СПб., 1877) множество переводов помечено инициалами — «M. M.». Переводы Костомарова, из отвращения к доносчику, в изданиях Гейне теперь никогда более не публикуются…
6
В программу работы нашего семинара входила поездка по стране: Брауншвейг, Гамбург, города Рейна и Рура; завершалось все посещением Франкфуртской книжной ярмарки. Мне удалось посетить еще и Мюнхен: повидать давних друзей, возложить цветы на могилу Макса!
В 1976 году, весной, я виделся в последний раз с моим другом издателем Максом, который когда-то организовал мне мучительные для него и для меня «потусторонние встречи» с уцелевшими главарями нацистской Германии. Он понимал, зачем мне это нужно: прикасаясь к вершинам немецкого духа, я обязан был знать также бездны, мрачные закоулки и тупики немецкой истории.
Макс был тяжело, безнадежно болен, ценил каждый отпущенный ему день, но считал своим долгом не только прожить этот день, просуществовать как-то, но прожить со смыслом, с пользой для других. Втайне он верил, что именно этим сможет одолеть, пересилить болезнь. Часто он повторял: «Главное, чтобы мы были живы, любили друг друга и оставались людьми». Некоторым эта истина казалась банальной, между тем в ней содержался глубокий смысл: не так-то просто любить друг друга и оставаться людьми, когда кругом воют волки…
Мы ехали с ним в машине, и по всей дороге, прекрасной, солнечной, в зачарованный апрельский день, вырастали на каждом шагу предостерегающие знаки: «Lebensgefahrlich!» («Опасно для жизни!») — желтые таблички с изломанной красной стрелой.
Макс довез меня до гостиницы, обнял, мы распрощались, и я еще раз увидел его в дверях — рыжего, непривычно худого, ставшего вдруг как бы прозрачным. Подняв руку, он с чувством сказал: «Gott mit dir!» («Бог с тобой!»)

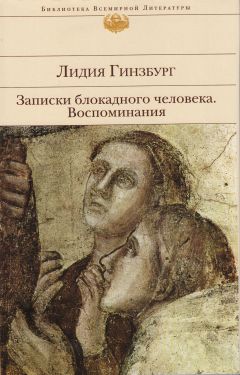
![Лидия Гинзбург - Агентство Пинкертона [Сборник]](/uploads/posts/books/13908/13908.jpg)