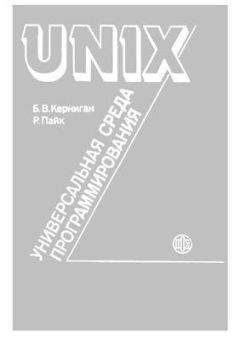Валерий Брюсов - Русские символисты
Из области чисто технической Вяч. Иванов нового дает в своей новой книге немного. Но на проложенных им ранее путях он делает завоевания новые, и не малые. Неравностопный стих (отчасти соответствующий немецкому knittelvers[52] и стиху Гейне) представлен в «Cor Ardens» блистательными примерами, может быть, лучшими на русском языке, несмотря па очень удачные попытки в этом направлении А. Блока. «Песни из лабиринта», напр., могут быть названы образцом коротких строк, из которых каждая, согласно с своим содержанием, сама создает свой размер. В цикле сонетов «Золотые завесы» есть несколько в высшей степени примечательных по оригинальности рифм и по законченности своего построения. Многие стихи, по звуковой своей изобразительности, достойны соперничать с лучшими образцами такого рода у Вергилия, как, напр., стих:
Чу, копи в бровях ржут, и лавр шумит, густея…
Но надо признаться, что по временам, в погонях за аллитерациями, Вяч. Иванов заходит слишком далеко, и стихи—
Пьяный пламень поле пашет,
Жадный жатву жизни жнет,—
напоминают уже не Вергилия, а стихи Бальмонта, его
Чуждый чарам черный челн…
Во всех стихах Вяч. Иванова есть что-то от античной поэзии. В расположении слов и в построении строфы часто слышатся отзвуки строгой латинской лиры. «Покров», напр, (говорим исключительно о его ритмике), наводит нам на память Катулла, «Carmen Saeculare» — Горация, «Огненосцы» — хор Эсхиловой трагедии, «Сон Мелампа» намеренно подражает античной идиллии. Это веяние античности придает поэзии Вяч. Иванова редкую в наше время силу, и от его стихов получается впечатление созданий acre perennius.[53]
1911
«АДЕЛАИДА ГЕРЦЫК»[54]
Г-жа Герцык в искусстве ищет своего пути. Своеобразны ее ритмы, ее язык, ее образы. Ей больше нравится искать музыкальности стиха в его свободе, чем в механическом подсчете ударений. Она охотно обогащает свой словарь неологизмами, словами старинными, областными, малоупотребительными (в этом — она верная ученица Вяч. Иванова). Она предпочитает отваживаться на новые словосочетания, чем пользоваться уже признанно «поэтическими» эпитетами и сравнениями. Однако очень часто средства г-жи Герцык, как поэта, оказываются ниже ее замыслов. Многие ее стихотворения производят впечатление смелого взлета и плачевного падения. Решительно в упрек г-же Герцык должны мы поставить оторванность ее поэзии от жизни. Ко всему в мире г-жа Герцык относится с какой-то гиератичностью, во всем ей хочется увидеть глубокий, символический смысл, но это стремление порой ведет лишь к излишней велеречивости. Сообщив, что она всегда одевается в белое, г-жа Герцык объясняет это вот чем: «Освящаю я времени ход, чтоб все шло, как идет». Еще уверяет г-жа Герцык, что она «ратовать станет лишь с мглою небесною». Почти все в стихах г-жи Герцык — иносказание. Если она упоминает «снопы», то, конечно, речь идет не о снопах (ибо «быль их не рассказана»); если о «дверях», то не просто о деревянных, а о таких, которые «нельзя отворить»; если о «прохожем», то не о тютчевском, который идет «мимо саду», а о прохожем, идущем непременно «земной пустыней»; если о «молоте», то мистическом, «высекающем новую скрижаль»; если о «павлинах», то «с перьями звездными» и т. д. Впрочем, все эти оговорки не мешают нам признавать в г-же Герцык настоящую силу и верить, что она может вырасти в истинного поэта. Добавим, что и в ее первой книге есть несколько стихотворений вполне удачных, как, напр.: «Осень», «Закат», «На берегу», «Не смерть ли здесь прошла» (кроме конца), «С дальнего берега»…
1910
«ПОЭТЫ-ИМПРЕССИОНИСТЫ»
«КИПАРИСОВЫЙ ЛАРЕЦ»[55]
О И. Ф. Анненском последний год писали и говорили много. Несомненно, к нему приближалась запоздалая, но совершенно им заслуженная широкая известность. Истинный поэт, тонкий критик, исключительный эрудит, человек во всем и всегда оригинальный, на других не похожий, И. Анненский должен был, наконец, обратить на себя внимание и «большой публики». Как все помнят, неожиданная смерть оборвала его деятельность именно в ту пору, когда она начала приобретать общественное значение и настоящее влияние.
Второй, уже посмертный, сборник стихов И. Анненского содержит сотню стихотворений, искусственно и претенциозно распределенных в «трилистники» (по три) и «складни» (по два). Различные по глубине замысла и по тщательности выполнения, все эти стихотворения объединены тем, что Баратынский назвал «лица необщим выражением». И. Анненский обладал способностью к каждому явлению, к каждому чувству подходить с неожиданной стороны. Его мысль всегда делала причудливые повороты и зигзаги; он мыслил по странным аналогиям, устанавливающим связь между предметами, казалось бы, вполне разнородными. Впечатление чего-то неожиданного и получается, прежде всего, от стихов И. Анненского. У него почти никогда нельзя угадать по двум первым стихам строфы двух следующих и по началу стихотворения его конец, и в этом с ним могут соперничать лишь немногие из современных поэтов. Эпитеты, сравнения, обороты в стихах И. Анненского, даже самые выбираемые им слова, всегда свежи, не использованы… Его можно упрекнуть в чем угодно, только не в банальности и не в подражательности. Манера письма И. Анненского — резко импрессионистическая; он все изображает не таким, каким он это знает, но таким, каким ему это кажется, притом кажется именно сейчас, в данный миг. Как последовательный импрессионист, И. Анненский далеко уходит вперед не только от Фета, но и от Бальмонта; только у Верлена можно найти несколько стихотворений, равносильных, в этом отношении, стихам И. Анненского. Впрочем, кое-где он явно старается сознательно о таком импрессионизме, и поэтому некоторые его стихотворения не просты, надуманы. В общем, однако, его поэзия поразительно искренна. Его стихи раскрывают перед нами душу нежную и стыдливую, но слишком чуткую, и потому привыкшую таиться под маской легкой иронии. И эта ирония стала вторым лицом И. Анненского, стала неотделима от его духовного облика.
Своеобразные, капризные ритмы и намеренно неправильный, хотя изысканно обдуманный стиль И. Анненского прекрасно подходит к духу его поэзии.
1910
НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ[56]
В книге А. Блока радует ясный свет высоко поднявшегося солнца, побеждает уверенность речи, обличающая художника, вполне сознавшего свою власть над словом.
Александра Блока, после его первого сборника стихов («Стихи о Прекрасной Даме»), считали поэтом таинственного, мистического. Нам кажется, что это было недоразумением. Таинственность иных стихотворений А. Блока происходила не оттого, что они говорили о непостижимом, о тайном, но лишь оттого, что поэт много в них не договаривал. Это была не мистичность, а недосказанность. А. Блоку нравилось вынимать из цепи несколько звеньев и давать изумленным читателям отдельные, разрозненные части целого. До той минуты, пока усиленным вниманием читателю не удавалось восстановить пропущенные части и договорить за автора утаенные им слова, — такие стихотворения сохраняли в себе прелесть чего-то странного и почти жуткого. Этот прием «умолчания» нашел себе многочисленных подражателей и создал даже целую «школу Блока». Но сам А. Блок, по-видимому, понял всю обманность прежних чар своей поэзии. В его стихах с каждым годом все меньше «блоковского», и перед его читателями все яснее встает новый, просветленный образ поэта.
А. Блок, как нам кажется, — поэт дня, а не ночи, поэт красок, а не оттенков, полных звуков, а не криков и не молчания. Он только там глубок и истинно прекрасен, где стремится быть простым и ясным. Он только там силен, где перед ним зрительные, внешние образы. В «Нечаянной радости» не все отделы равноценны. Еще не мало стихотворений должно быть отвергнуто, как такие, в которых поэт не сумел адекватно воплотить в слова свои переживания. Но уже в целом ряде других чувства поэта, — большею частью простые и светлые, — нашли себе совершенное выражение в стихах певучих и почти всегда нежных. Читая эти песни, вспоминаешь похвальбу Ив. Коневского: «Властно замкну я в жемчужины слова — смутные шорохи дум». Стих А. Блока всегда напевен, хотя размеры его и однообразны. В нем есть настоящая магия слова, чудесная, которую почти невозможно разложить на составные элементы, трудно объяснить аллитерациями, игрой гласных и т. д. В таких песнях, как посвященная Ф. Смородскому или «Умолкает светлый вечер», — есть что-то от пушкинской прелести.
А. Блок скорее эпик, чем лирик, и творчество его особенно полно выражается в двух формах: в драме и в песне. Его маленькие диалоги и его песни, сложенные от чужого лица, вызывают к жизни вереницы душ, которые уже кажутся нам близкими, знакомыми и дорогими. Перед нами создается новая вселенная, и мы верим, что увидим ее полную и богатую жизнь — ярко озаренной в следующей книге А. Блока.