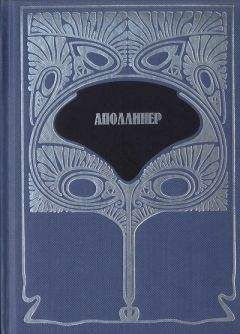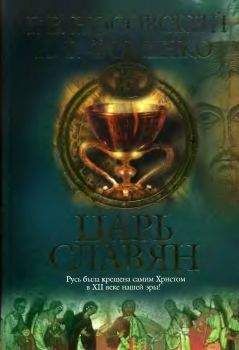Мариэтта Чудакова - Новые работы 2003—2006
Быть может, активнее всего в зарождении поэтики «солдатских» песен Окуджавы участвует ставшая популярной, во всяком случае, в ранние пятидесятые, песенка на слова Киплинга в слегка подправленном переводе А. Оношкович-Яцыны «Пыль»[217] (перевод С. Маршака «Пехота в Африке»,[218] опубликованный в 1931 году, не приобрел популярности):
День-ночь-день-ночь, – мы идем по Африке,
День-ночь-день-ночь, – все по той же Африке —
(Пыль-пыль-пыль-пыль – от шагающих сапог!)
Отпуска нет на войне!
(«Подправленная» песенная редакция:
И только пыль-пыль-пыль от шагающих сапог,
Отдыха нет на войне солдату,
Нет, нет, нет!)
В оригинале стихотворение называется «Сапоги» («Boots»); в 1920-1930-е годы это заглавие не было востребовано. Между тем в послевоенные годы «сапоги» уже стали поэтизмом (пройдя предварительно через стадию прозаизмов «Василия Теркина» – «Не спеша надел штаны / И почти что новые, / С точки зренья старшины, / Сапоги кирзовые…»[219] – и перейдя много позже в «прахоря» Бродского в стихотворении «На смерть Жукова»), и вошли в этом качестве – с нажимом – в «Песню о солдатских сапогах» Окуджавы:
Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней…
Уходит взвод в туман-туман-туман…
А прошлое ясней-ясней-ясней.[220]
Сапоги, барабан и акцентированные лексические повторы (включая графику – использование дефиса) имели, скорее всего, одним из источников или, во всяком случае, импульсов русскую версию песенки на слова Киплинга. Она же помогла входящему в стандартизированную послевоенную литературу лирику дистанцироваться от стереотипа «советского бойца» и сделать нужный шаг в сторону абстрактного «солдата» и «женщины».
Но этот «солдат» настойчиво мелькает уже в первом сборнике Окуджавы, о котором мы говорили в самом начале: «Но не спит, но по городу ходит солдат…», «Откуда такой невредимый солдат?» – и там же появляется киплинговская (а возможно, и вполне доморощенная) «пыль»: «и пылью пропитаны сапоги» («Ночь после войны»).[221] Как близкое предвестие, появляются «сапоги» и «дороги» – как бы не к месту! – в безобидном стихотворении 1957 года «Письма» о командировочном: «Дороги непогодою размыты, / и сапоги раскисли от воды», – где будто сами собой возникают и «спины солдатские», и «солдат».[222] И там же, конечно, «шинель» («на моей, продырявленной смертью, шинели»[223]), которой суждено будет сыграть такую важную роль в зрелой лирике поэта («Бери шинель, пошли домой!»[224] – стихи, на наш вкус, лермонтовской силы).
Так лирика, на русской почве ХХ века «в штыки неоднократно атакованная»[225] и к середине 1930-х годов почти исчезнувшая, возвращалась в русскую поэзию на штыках великой войны – с тем чтобы после великой победы вновь замереть на целое десятилетие и затем возродиться под звуки гитары Булата Окуджавы с непредвиденно сильным, едва ли не общенациональным резонансом.
ДВЕ КНИГИ О ГЕРОЕ-АВТОРЕ
1
В 1931 году два человека, живущие в Москве, ничего не знающие друг о друге и находящиеся при этом на полюсах во всем – родительская семья, образование, последующая биография (они, как и их родные и друзья, во время Гражданской войны – по разные стороны линии фронта), отношение к Октябрьскому перевороту и к большевикам, – приступают к осуществлению замысла романов, которые оказались сближены необычным сюжетным построением. О том, как герой романа, нескрываемо близкий автору и к автору, пишет роман.
То есть – и один, и другой взялись описывать в романе, как они пишут этот самый роман. Речь идет о романе «Как закалялась сталь» и романе, который постепенно получит название «Мастер и Маргарита».
Этому предшествовали, а потом и сопутствовали очень разные, но иногда и весьма сопоставимые биографические обстоятельства. Оба, как уже говорилось, участвовали в Гражданской войне: в июле 1919 года Николай Островский уходит добровольцем на фронт в Красную армию, Михаил Булгаков же в августе-сентябре того же года по мобилизации вливается в Добровольческую армию и тоже уезжает на фронт – на Северный Кавказ. Островский в 1920 году был ранен и после этого работал в Киеве – родном городе Булгакова, который уже год как покинут им навсегда. Оба в одно и то же примерно время переболели тифом, с роковыми последствиями для обоих – Булгаков не смог уйти с Добровольческой армией и оказался под советской властью, у Островского начинает развиваться неизлечимое заболевание.
Потеряв в 1927 году подвижность, а в 1929 году – зрение, Островский близок к самоубийству. Его первую рукопись теряют. К концу 1930 года друзья начинают записывать за ним первые страницы нового замысла, в котором есть определенная связь с утраченной рукописью.
М. Булгаков к лету 1929 года лишается зрителя – все его пьесы сняты из репертуара. 30 июля 1929 года Булгаков подает заявление Сталину, Калинину, Горькому, Свидерскому:
«… силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством ССРР об изгнании меня за пределы СССР…».[226]
Подано оно было через начальника Главискусства А. И. Свидерского, с особым к нему письмом такого же отчаянного содержания. Свидерский передает его заявление «наверх», сопровождая запиской секретарю ЦК ВКП(б) А. П. Смирнову:
«Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безвыходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом. При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым»[227]
– то есть предлагает отпустить его на все четыре стороны. Секретарь же ЦК, хотя и считает, что
«в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление – практиковалась только травля», но просьбу о разрешении выезда за границу полагает необходимым «отклонить. Выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличивать число врагов. Лучше будет оставить его здесь…».[228]
Оставленный «здесь», как крепостной холоп, 24 августа Булгаков посылает письмо брату Николаю:
«В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. ‹…› Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух, что я обречен во всех смыслах. ‹…› Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока…».
3 сентября он передает – уже по личным каналам – еще одно заявление об отъезде, теперь секретарю ЦИК А. С. Енукидзе, и в тот же день письмом просит Горького поддержать его просьбу:
«… Мое утомление, безнадежность безмерны. Не могу ничего писать».[229]
В начале 1930 года потеряна надежда и на постановку новой, недавно написанной пьесы.[230] Его формулировки в письме правительству (28 марта 1930) недвусмысленно говорят о душевном состоянии, которое – по самоощущению – можно назвать без особой натяжки близким к состоянию парализованного и ослепшего младшего современника:
«Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо. ‹…› У меня ‹…› налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, – нищета, улица и гибель».[231]
Е. С. Булгакова уверяла автора этой работы в том, что, отправив письмо и ожидая на него ответа от кого-либо из семи адресатов, Булгаков готов был в случае, если ответа не будет, к самоубийству – так же, как и Островский (и тоже из револьвера).
Во время диктовки письма правительству он, по единственному свидетельству Е. С. Булгаковой в нашем с ней разговоре 1968 года, уничтожает рукописи начатых работ – в том числе романа.[232] Утрата авторской рукописи, сопоставленная с потерей рукописи романа Островского, и другие совпадения дали повод А. Грачеву говорить о влиянии Н. Островского на М. Булгакова; он особенно подчеркнул в двух романах один общий мотив: «Недужный писатель наедине с рукописью, друг-женщина рядом и мучительное ожидание результата (решения литературных судей)», заметил и сходные фразы:
«У Н. Островского: “‹…› Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге – и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз”. У М. Булгакова: “И этот роман поглотил и незнакомку. Она без конца перечитывала написанное. Она сулила славу, подгоняла его”».[233]