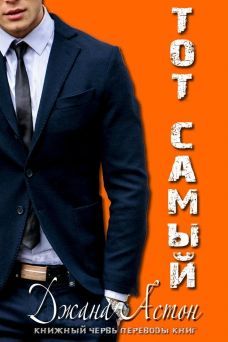Григорий Померанц - ОТКРЫТОСТЬ БЕЗДНЕ. ВСТРЕЧИ С ДОСТОЕВСКИМ
В Библии сказано: одни сосуды месят для славы, другие – для позора. У Достоевского – напротив: то, что создано для славы, употребляется для позора, и то, что создано для позора, употребляется для славы.
В течение чуть ли не двухсот лет хвалят Шекспира за то, что он свободно смешивал трагическое с комическим и позволяет принцу Гамлету беседовать с могильщиками. Однако принц и на кладбище остается принцем, а могильщики – могильщиками. Трагическое и комическое у Шекспира чаще сталкивается, чем сливается, – разве только в своеобразной фигуре Шейлока («Моя дочь! Мои червонцы!»). Гамлету не приходится расталкивать пьяного мужика Лягавого в безнадежных поисках 3000 рублей, без которых гибнет его честь. Ревнивому Отелло не нужно раздеваться перед следователем, показывая свои большие некрасивые ноги и грязные носки. Между тем Митя Карамазов делает все это – и все-таки трагичен. Его любовь к Грушеньке не пачкается среди пьяного разгула в Мокром; она парит над грязью, окружающей ее. И в сумрачной обстановке «Бесов» потрясает чуткость Шатова к своей беременной жене, приехавшей рожать не его ребенка.
Эстетическое отношение Достоевского к Шекспиру примерно такое же, как Рембрандта к Леонардо. Можно отдавать предпочтение итальянцам, но и в рембрандтовской живописи есть своя истина и сила. Нищие, старики и старухи, от которых отворачивается богатая и счастливая юность, входят у Рембрандта в мир красоты. Пьяненький Мармеладов, штабс-капитан Снегирев с наполовину выщипанной Митей бородкой, какие-то сальные пятна на человечестве, раскрываются у Достоевского в людей, полных почти необъяснимой привлекательности.
Прочитав исповедь Мармеладова в трактире, понимаешь вкус евангельского отца, который предпочел другим своего блудного сына. Привлекательность его – в сознании собственной низости, в нищете духа, в готовности поклоняться идеалу в других, в способности забвения себя в любви. Блудные дети человечества превосходят этим высоких и гордых, слишком занятых собой и слишком часто не находящих в мире ничего достойнее самих себя. И Наполеоны, ничтожные в любви, оказываются ниже, чем раздавленный лошадьми алкоголик. Ничтожное становится высоким и высокое ничтожным, комическое дорастает до трагизма – и наоборот. Черт, явившийся Ивану Карамазову в потертом фраке, цитирует, пополам с пошлостями, его затаенные мысли; Смердяков подхватывает и делает мерзкой, лакейской его гордую идею «все позволено». Самоубийство Свидригайлова, которое было все же его лучшим поступком в жизни, происходит в присутствии Ахиллеса в пожарной каске...
Между героями Достоевского, на первый взгляд, устанавливается равенство всеобщей низости. Тех, кто пытается поставить себя на некоторый моральный пьедестал, сбрасывают в общую грязь к тем, кого они называют подлецами. Талант Достоевского жесток к гордым. Но зато он бесконечно мягок к падшим, потерявшим не только чрезмерное уважение к себе, почти что не считающим себя людьми, – бесконечно внимателен к ним; а перед взглядом, полным любви, открываются и начинают сверкать «самородочки в грязи»... В «Идиоте» Достоевский идет особенно далеко и идеализирует не только внешне падших (как Соня Мармеладова), но глубоко падших внутренне, подлых, низких. Поручик Келлер исповедуется перед Мышкиным в своих грехах, трогает своими слезами, а потом просит одолжить 25 рублей. Он клянется, что шел с совершенно искренним желанием очистить себя покаянием, но – признается – в то же время мелькнула двойная мысль: не одолжит ли ему Мышкин, размягченный исповедью, на похмелье? И Мышкин его совершенно понимает и деньги одалживает.
Человек с дифференцированным, подвижным сознанием часто созерцает сразу несколько отвлеченных мыслей, сплошь и рядом противоположных друг другу. Среди этих мыслей могут быть подлые, основанные на самых примитивных и даже извращенных инстинктах, грубо эгоистических расчетах и т. д., и благородные, основанные на высших способностях души. Один и тот же поступок может быть иногда рационален с нескольких точек зрения. Это не снимает разницу между людьми благородными и подлыми, но делает границу подвижной, трудно уловимой. Одни больше руководствуются высшими мотивами, другие – низшими. Но сознание каждого человека противоречиво. В нем не одно, а несколько «я».
Всякая страсть, отражаясь в сознании, сознаваясь, находит в нем свое «я», эти «я» наслаиваются одно на другое, переплетаются, иногда путаются друг с другом, вступают в борьбу, и чем разнообразнее, подвижнее окружающая человека жизнь и интересы, которые она вызывает, тем беспокойнее его нравственный мир. Строгое соподчинение, гармония, в которой каждая законная страсть находит свое место, для развитой натуры гораздо труднее достижима, чем для примитивной. Это, если хотите, преимущество примитива; но преимущество, все больше уходящее в прошлое. Удерживать себя в равновесии для дифференцированного человека – искусство, которому надо учиться и научиться очень нелегко. Почти как ходить по проволоке. Взбудораженные люди, вчера только выбитые из своих патриархальных гнезд, еще не научились эквилибристике и валятся то вправо, то влево; в какой-нибудь один час (как это любит показывать Достоевский) они способны совершать резко противоположные поступки, словно в них поочередно вселяется то ангел, то бес. Подлец Лебедев молится всю ночь за упокой души графини Дюбарри, а потом возвращается к своим торгашеским расчетам. Раскольников убивает старуху и ее сестру топором, а потом отдает свои деньги на похороны Мармеладова... Из этого не вытекает равенство Раскольникова Лебедеву. Кошки у Достоевского вовсе не все серы. Лебедев, помолившись, остается жуликом. Раскольников и убив не теряет какого-то оттенка прекраснодушия. «Какой в вас, однако же, Шиллер сидит», – говорит ему Свидригайлов...
Но и жулику Лебедеву не чуждо «прекрасное и высокое». Здесь Достоевский, полемизировавший с Некрасовым в «Записках из подполья», неожиданно смыкается с ним:
Не верь, чтоб вовсе пали люди,
Не умер Бог в душе людей!..
Над равенством низости устанавливается другое, высокое равенство – почти всеобщей способности к добру и любви. Вне этого встревоженного мира, в котором борются добро и зло, стоит только несколько неуязвимых характеров, вроде Лужина и Ракитина, духовно глухих и слепых. Они сразу нашли свое место в новом, рациональном обществе и с презрением смотрят на окружающую их «карамазовщину» (поглядывая в то же время, какую выгоду из нее можно извлечь). Подлинные герои Достоевского с еще большим презрением отворачиваются от них. «Хотя мы и врем, – говорит Разумихин, – потому что ведь и я тоже вру, да довремся же, наконец, и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр Петрович не на благородной дороге стоит...»
7. Гибель первых, торжество последних
Те, кто более чуток к идее, к принципу, кто больше, полнее других способен увлечься ею, первыми должны погибнуть. Логически неизбежно (хотя в романе это не показано) идет к гибели Соня, не слушая никаких доводов разума, и Раскольников, слушаясь только разума. Мышкин и Рогожин тоже во власти гибельных в своем безудержном развитии сил – страсти и сострадания. На каком-то высшем уровне Мышкин прав (как, в сущности, права и Соня); в каком-то другом, лучшем мире, на планете Смешного человека, он был бы у себя дома. Но в мире, в котором мы живем, благородная страсть так же губит, как и низкая. Всякая идея волочит героя на Голгофу. Однако мученики идеи, погибая, не оставляют после себя пустого места. «Тварь дрожащая», мимо которой Раскольников проходит, презрительно отворачиваясь, оказывается людьми, способными ко всему человеческому. Один из итогов романа – изменение нашей поспешной оценки Лебедевых, Келлеров и т. д. «Один гад уничтожит другую гадину», – думаем мы сперва вместе с Иваном; а к концу Митенька вырастает, к нашему удивлению, во что-то вроде положительного героя, оттесняя даже предназначенного к этой роли Алешу. Идея перестает быть монополией интеллектуалов, она спускается на «безъязыкие улицы города», и «каторжане города-лепрозория» сами, стаскивая за ноги парламентских представителей, косноязычным, но выразительным языком начинают говорить о себе[18] Каждый роман Достоевского – это бунт, в ходе которого интеллигенты, зачинатели движения, слишком чуткие к мысли, гибнут, падая под ноги толпы, но вместо них толпа выдвигает своих собственных мыслителей; и в этом разверзании уст валаамовой ослицы – эпическое движение, без которого вообще не вышло бы романа, летописи жизни народа, а получилась бы только трагедия нескольких поднявшихся над ними одиночек. Идет на каторгу Раскольников, сходит с ума Мышкин и, может быть, Иван Карамазов, вешается Ставрогин, стреляется Кириллов, но остаются Разумихин и Дуня, остаются Лебедевы и Митеньки.